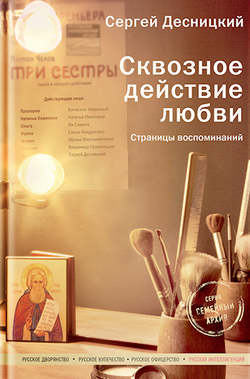Читать книгу Сквозное действие любви. Страницы воспоминаний - Сергей Десницкий - Страница 12
Из первой книжки воспоминаний
Начало
(ноябрь 1943 г. – июнь 1958 г.)
Рига
ОглавлениеРанним мартовским утром, на дворе было еще темно, мы втроем – мама, Боря и я – сели в служебную «Победу» Глеба Сергеевича и поехали в Киев. Билеты у нас были на утренний рейс, поэтому выехали мы задолго до рассвета.
У кого не дрогнет сердце перед дальней дорогой и тревожные, сладкие ожидания не проснутся в душе? Несмотря на все переживания последнего времени, я был рад, что мы едем к Илечке. Едем в город, который пленил меня своей самобытностью и средневековой красотой почти год тому назад.
Сквозь чуть запотевшее стекло я глядел на пробегавшие за окном машины обшарпанные, забрызганные весенней грязью дома и прощался с Житомиром, ставшим для меня вторым родным городом.
Прощался навсегда.
В Рижском аэропорту нас встречала Иля. «Ну наконец-то!..» – были ее первые слова, когда она обняла и расцеловала маму, потом нас с братом. Дядя Карл прислал за нами свою машину, и мы, получив багаж, со всеми удобствами поехали в свой новый дом на роскошном ЗИМе. Товарищ Кетнер служил в Латвэнерго главным инженером, то есть фактически был в ранге замминистра, и ему полагался именно такой служебный транспорт.
Теперь настало время рассказать об этой удивительной семье, особенно о Карле Карловиче (старшем) и о том, какую важную роль он сыграл в моей жизни.
Порой диву даешься, какие причудливые повороты устраивает в нашей жизни судьба, так что ее удивительные зигзаги кажутся нам слишком невероятными. Мама и дядя Карл учились в латышской школе в одном классе. Это было в Харькове, куда в 14-м году эвакуировали завод ВЭФ. Как я уже писал, дед Антон к тому времени овдовел и один воспитывал двух дочерей – Эльзу и Веру. Конечно, ему нужна была помощница, ведь маме только-только исполнилось семь лет. Поэтому когда он встретил вдову Ольгу, у которой тоже была девочка на руках, то сделал одинокой женщине предложение, и они поженились. Звали сводную сестру его дочерей Эрика.
Мама рассказывала, что в школе Карлуша оказывал ей различные знаки внимания, и всем одноклассникам было ясно: к Верочке Апсе Кетнер неравнодушен. Однако мама отвергла его ухаживания, вышла замуж за человека, которого ни я, ни Боря не знаем, а после того, как ее первый брак оказался неудачным и она покинула Харьков, чтобы в Севастополе выйти замуж за нашего отца, их пути окончательно разошлись… Так им тогда казалось. Но!..
То ли от огорчения, то ли потому, что им действительно овладело настоящее чувство, не мне об этом судить, но, как бы то ни было, дядя Карл женился на Эрике, и, таким образом, мы стали близкими родственниками.
Незадолго до войны с Карлом Карловичем случилась беда. Боюсь соврать, но по одной версии он играл в волейбол и неудачно упал, по другой – колол дрова и нечаянно ударил себя обухом топора по колену. Но главное не то, отчего он травмировал ногу, а то, что врачи поставили неправильный диагноз (по-моему, перелом коленной чашечки, хотя на самом деле это был сильный, но обыкновенный ушиб) и неверно лечили дядю Карла. Ногу на долгие годы заковали в гипс, а когда сняли гипсовую повязку, выяснилось, что сустав окостенел и старший Кетнер на всю жизнь остался инвалидом. Из-за этого Карл Карлович не воевал, а после окончания войны оказался в Риге, поскольку был крупным специалистом в области энергетики и нужно было восстанавливать разрушенное войной хозяйство. К тому же в паспорте Карла Карловича в графе «национальность» стояло «латыш», и это обстоятельство стало решающим фактором. Он был, как тогда говорили, «национальный кадр».
Жить Кетнерам было негде, и Илечка, у которой пустовала огромная пятикомнатная квартира, предложила им поселиться у нее. Таким образом, дядя Карл, его жена Эрика, их сын Карлуша и бабушка Оля оказались нашими соседями в квартире № 14 в доме № 4 по улице Тербатас.
Для меня это было подарком судьбы, потому что с младшим Кетнером я подружился минувшим летом, и теперь наши отношения возобновились. Я обзавелся другом, как говорится, не выходя из дома. Правда, Кава (так звали Карла домашние) был на два года старше меня, но какое это имело значение, если ничто другое не разделяло нас?..
Но главным моим обретением в Риге был Карл Карлович. Сильно располневший из-за того, что роковая ошибка врачей заставила его фактически без движений провести нескольких лет, дядя Карл не утратил бодрости духа и неиссякаемого оптимизма. Громкогласный, остроумный, любящий застолье и хороший анекдот, он являл собой полную противоположность строгой и, честно говоря, несколько занудной жене. Даже став хромым, он любил танцевать, а летом после работы, приезжая на дачу в Авоты, первым делом отправлялся на пляж и купался в море в любую погоду. Представить тетю Эрику в купальнике, под моросящим дождем входящую в холодную воду Рижского залива, практически невозможно. Она никогда не работала, вставала поздно и целый день проводила в постели, читая запоем все, что попадалось ей под руку. Домашним хозяйством в их семье занималась баба Оля и домработница, поэтому Эрика Робертовна могла позволить себе подобную «вольность». Судя по старым фотографиям, в молодости она была очень симпатичной, если не сказать – красивой. Теперь же неподвижный образ жизни сделал с ней то, что обычно делает с человеком время: состарил сразу на добрый десяток лет, стерев с лица былую красоту.
Мама была совсем другой. Вечно активная, моторная, она и десяти минут не могла просидеть без дела. Помню, перед выходом на пенсию все мечтала, как сможет на досуге перечитать всего Тургенева. И что же? Перечитала?.. Куда там!.. Я спросил ее: «Почему?» – «Да как-то все некогда было…» И в этом ответе она вся.
И у дяди Карла юношеская симпатия к Верочке Апсе за годы разлуки не исчезла. Конечно, чувство стало иным – пылкость далекой молодости ушла, ее сменила тихая, едва заметная нежность. Это было заметно хотя бы по тому, как дядя Карл смотрел на маму, как оказывал ей, пусть даже пустячные, знаки внимания. Для Эрики Робертовны такое «коварство» мужа, конечно, не могло оставаться тайной, и она втихомолку стала ревновать его к сводной сестре. Нет, внешне все выглядело вполне благопристойно и придраться было не к чему, но все же тетя Эрика недолюбливала маму, и это не могло не сказаться на их отношениях. И если в первый год после нашего приезда все двери в доме были распахнуты настежь, все семейные праздники и Новый, 1955-й год мы встречали вместе с Кетнерами, то в дальнейшем дверь на их половину перекрыл громоздкий пузатый буфет, и на дни рождения мы отныне ходили друг к другу в гости: из одной половины квартиры № 14 в другую. Однако все эти сложности могли волновать только взрослых. Нас с Карлушей они не касались, и никакой буфет не мог стать препятствием для нашей дружбы.
А дядя Карл занял в моей жизни совершенно особое место. Так случилось, что с родителями я никогда не был до конца откровенен. Мама всегда казалась мне слишком суровой и недоступной, и, честно говоря, я ее боялся. Отца в детстве я видел всего лишь урывками, а его «предательство» и вовсе воздвигло между нами невидимую глазом, но весьма болезненную стену отчуждения, которая со временем ощущалась уже не так остро, как вначале, но все же окончательно не исчезла, хотя Глеб Сергеевич упорно стремился ее преодолеть. Высокомерие «сына начальника училища» мешало мне быть своим парнем среди дворовой пацанвы. (В какой-то степени это не касалось лишь Толика Смоляницкого.) Вот и выходило, что Сережа Десницкий в детстве был достаточно одинок и, признаюсь, даже привык к такому положению вещей. Поэтому всякое проявление заботы и мужского участия ощущалось мною как «нечаянная радость».
И с самого первого дня нашего переезда в Ригу я постоянно ощущал со стороны Карла Карловича эту «радость». Конечно, он не мог и не стремился заменить мне отца, но я благодарен ему, прежде всего за то, что он не позволял моему одиночеству превратиться в болезнь и очень осторожно, по-мужски занимался моим воспитанием. Так, например, по долгу службы время от времени он должен был посещать электрические подстанции по всей республике. Так вот, он брал Карлушу и меня с собой, и мы за время этих инспекционных поездок практически объездили всю Латвию. Именно благодаря дяде Карлу я узнал, какой сладкой бывает брусника в марте, когда руками разгребаешь колючий снежный наст и срываешь ярко-красные ягоды с почерневших от мороза веточек. Или вдруг остановимся по дороге, чтобы пописать, и застреваем в лесу на долгие полчаса, чтобы собрать торчащие из высокой травы подосиновики. Кому-то это, может быть, покажется смешным и недостойным упоминания, но именно дядя Карл втайне от мамы дал мне почитать Мопассана (он же не мог знать, что я уже знаком с творчеством этого француза, так как еще в Житомире вместе с ребятами на чердаке нашего дома вслух читал затрепанный до дыр его роман «Жизнь»). Это дядя Карл впервые в жизни привел нас с Карлушей вечером в ресторан. Во время поездок с мамой из Житомира в Киев мне доводилось бывать с ней в ресторанах. Но разве можно сравнить комплексный обед в полупустом ресторанном зале изнывающего от июльской жары города с вечерним посещением сего злачного места, куда «детям до шестнадцати» вход категорически запрещен. Никогда не забуду, как с замиранием сердца я переступил порог знаменитого на весь Советский Союз ресторана «Лидо» в Дзинтари. Где-то совсем рядом, за ресторанными стенами вздыхало и пенилось море, а тут, внутри, сладко пахло женскими духами, подгоревшим на кухне маслом, винным перегаром и вообще… тем особым ресторанным запахом, который так призывно волнует обоняние всякого любителя дружеского застолья и умеренных возлияний. В центре зала по истертому паркету томно двигались в танце пары отдыхающих, приехавших на модный прибалтийский курорт из самых отдаленных уголков нашей необъятной Родины!.. На крохотной эстраде под взвизги саксофона и барабанной россыпи лихого ударника тощая певица в длинном вечернем платье пела: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня!..» Звучал женский смех, звенел хрусталь, а мельхиоровые ножи и вилки так призывно стучали по фаянсовым тарелкам!.. И у тебя сладко сжималось сердце, потому что ты в эту минуту становился взрослым и невольным участником этого праздника жизни! Как хорошо!..
Дядя Карл, спасибо тебе и за этот вечер, и за многое-многое другое… Одним словом, спасибо тебе за все!..
В день нашего приезда в Ригу в доме, который отныне стал для нас родным, большой овальный стол был празднично накрыт, и за ним собрались не только Кетнеры и мы, но и наши новые рижские родственники. Во время выборов народных заседателей районного суда Иля среди кандидатов совершенно случайно наткнулась на фамилию Апсе. Оказалось, это ее двоюродный брат Эльмар, и вот теперь мы познакомились с ним, его женой Лидией и их детьми Гунтисом и Витой. Чуть позже мы также познакомились с младшим братом Карла Карловича дядей Францем и его женой Инной. Вот сколько новых родственников появилось у нас в одночасье!..
Остатки весенних каникул пролетели быстро, и 1 апреля мы с братом продолжили свое очень среднее образование. Боря в первом классе 40-й средней школы, где учился Карлуша и которая располагалась на той же улице Тербатас рядом с нашим домом; я – в шестом. Поскольку это был конец учебного года, для меня места в 40-й школе не нашлось, и пришлось довольствоваться семилеткой. В те далекие времена такие «неполноценные» учебные заведения были не редкость.
То, что мы уехали из Житомира, во многом облегчило нашу жизнь. Представляю, как было бы тяжело и маме, и мне, если бы мы остались. Каждый день встречаться с людьми, которые были в курсе наших семейных передряг, видеть либо злорадные, либо, что еще хуже, фальшиво сочувствующие лица, делать вид, что ничего особенного не произошло. Нет уж, увольте!.. Того, что мне довелось испытать в последние два месяца жизни в Житомире, с лихвой хватило на долгие годы.
А здесь, вдали от ставшего мне ненавистным военного городка ЖКЗАУ, среди новых родственников и новых приятелей горькие, мучительные переживания стали потихоньку отступать и уже не терзали мою душу так остро, как прежде. Я перестал плакать по ночам. Погасив свет, я долго не мог заснуть и мечтал, как жестоко я отомщу тому, кто так безжалостно меня предал. И с каждым разом месть моя становилась все более и более изощренной, а удовлетворение, которое я при этом испытывал, все более и более сладостным. Однако главным условием того, чтобы месть моя удалась, было одно: я должен стать знаменитым. На худой конец – удачливым и счастливым. Но знаменитым все-таки лучше.
Вскоре сбылось мое самое заветное желание: в середине мая я стал обладателем потрясающего фотоаппарата «Зоркий». Эту свою мечту я начал лелеять еще в Житомире. Один из подчиненных отца (к сожалению, не помню, как его звали) подарил мне старенькую немецкую камеру, которую в качестве трофея привез с войны. Наверное, когда-то давно это был неплохой аппарат, но к тому времени, когда он попал в мои руки, фотографии, сделанные с его помощью, получались, мягко говоря, не совсем удачными. Пленка по бокам засвечивалась, и при печати снимки выглядели довольно странно: изображение с двух сторон было окаймлено темными полосами. Я конечно же расстраивался, но про себя твердо решил: у меня будет самая настоящая фотокамера, чего бы мне это ни стоило!
И начал копить!..
Во-первых, экономил на школьных завтраках. Конечно, это были копейки, но все-таки!.. Во-вторых, уговорил маму, чтобы на все праздники, включая мой собственный день рождения, она дарила мне не какую-то пустяковую ерунду, а деньги. И таким образом мне удалось к маю 54-го года скопить больше четырехсот рублей!.. Представляете?
Честно признаюсь, с ценными подарками мне в жизни не везло. В раннем детстве на Новый год мама подарила мне диапроектор. Это – раз. В Житомире отец, уязвленный тем, что у Толика Смоляницкого появился велосипед, отстегнул мне шестьсот рублей, и я тоже смог приобрести двухколесного красавца, который назывался очень буднично и прозаично: ХВЗ (Харьковский велосипедный завод). Это – два. Что еще?.. Ах да!.. Вспомнил!.. На Новый год Мария Ильинична подарила мне авторучку. Вот, пожалуй, и все. Поэтому на щедрость родных и близких я не очень-то рассчитывал и с упорством Гобсека пытался накопить необходимую сумму. Каждый день, возвращаясь из школы, я заходил в магазин, что помещался на углу улиц Ленина и Карла Маркса. В нем продавались музыкальные инструменты и фотокамеры. Остановившись у прилавка, я вожделенно разглядывал сверкающие оптикой и никелированными деталями «ФЭДы» и «Зоркие», как братья-близнецы, похожие на американскую «Лейку», и роскошные, недоступные из-за своей дороговизны аппараты «Киев-2» и «Киев-3». Конечно, в те поры существовала дешевая камера «Любитель», но на ее широкой пленке помещалось всего лишь 12 кадров, и поэтому я решил терпеливо ждать. По моим расчетам, выходило, что максимум через шестнадцать месяцев необходимая сумма будет лежать в коробке из-под мармелада, которая служила мне банковским сейфом.
Как вдруг!
«Сколько ты сумел накопить?» – в одно действительно прекрасное утро спросила мама. Я открыл картонный сейф и выгреб из мармеладной коробки на свет Божий четыреста с лишним рублей. «Сколько тебе не хватает?» – спросила мама. Сердце мое тревожно забилось!.. Неужели? «Зоркий» или «ФЭД» стоили одинаково: семьсот с хвостиком. «Триста», – дрожащим голосом промямлил я. Мама открыла кошелек и протянула мне заветную сумму: «Пошли в магазин». А я?.. Чуть не умер от счастья! Ну где это видано, чтобы мечты сбывались так неожиданно и легко.