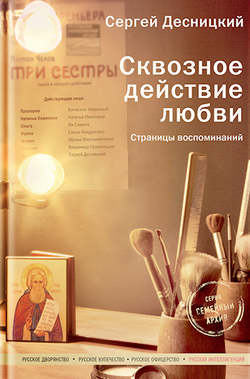Читать книгу Сквозное действие любви. Страницы воспоминаний - Сергей Десницкий - Страница 14
Из первой книжки воспоминаний
Начало
(ноябрь 1943 г. – июнь 1958 г.)
Эргли
ОглавлениеЛето 55-го года мы опять проводили в гостях у Илечки в удивительно красивом месте, которое называлось тоже очень красиво – Ergli, что в переводе означает «Орлы». Дом Первого секретаря Эргльского райкома партии стоял на самом краю поселка у подножия холма, поросшего густым лесом, за которым находилось безымянное озеро. Там и рыба водилась, и дикие утки выводили в прибрежных камышах утят, но главное его достоинство заключалось в том, что в этом озере можно было купаться. Поросший мягкой травой берег полого спускался к воде, и на дне лежал не противный глинистый ил, как это часто бывает в таких водоемах, а мелкий желтый песок. Одним словом, благословенное место – самый настоящий курорт.
Эргли – одно из красивейших мест в Латвии.
Маленький поселок лежит в уютной ложбине, через которую протекает небольшая порожистая речушка, а по сторонам его вольготно разлеглись пологие холмы, сплошь поросшие лесом.
Тут на пути то вдруг вырастет густой подлесок и никому не позволит продраться сквозь свои колючие заросли; то прозрачно-солнечный сосняк разбежится перед глазами, упираясь в небесную синь прямыми гладкими стволами, по которым медленно стекают янтарные слезы; то густая дубовая дубрава освежит своей тенистой прохладой, а сумеречный ельник роскошно бросит под ноги рыжий ковер из опавших сухих иголок, разукрасив его разноцветными шляпками толстоногих сыроежек. Красота, да и только!..
А если по едва заметной тропинке пройти чуть дальше, то обязательно выйдешь к лесному озеру. Не к одному, так к другому; не к большому, так к маленькому. Их в округе наберется штук шесть, никак не меньше.
Кто хоть раз бывал на берегу такого озера, тот наверняка согласится со мной: волшебные сказки, знакомые с раннего детства, оживают на твоих глазах. Деревья вплотную столпились у самого края, и по ровной глади стоячей воды медленно плывут пушистые отражения ватных облаков. А в прозрачной глубине на самом дне из-под корявых коряг топляка бегут наверх длинные цепочки крохотных пузырьков воздуха из подводных ключей, и кажется, вот-вот – и красавица-русалка вынырнет на поверхность, обдав тебя прозрачным дождем ледяных брызг.
Однажды мы с Борей набрели на лесное озеро. И вдруг!.. Какое счастье! Возле берега стоял привязанный к едва заметному в густой траве колышку самый настоящий плот. Конечно, если бы мы сказали маме, что забираемся в такую даль, нам бы здорово влетело, но мы ничего не говорили, а ей в голову не могло прийти, что ее драгоценные чада уходят от дома так далеко: за несколько километров. Конечно, мы с братом рисковали, пускаясь в «морское» путешествие без спросу у хозяина этого роскошного плавсредства. Кто знает, какова была бы его реакция, если бы он увидел, как два пацана, изображая пиратов, гоняют по озеру на его плоту. Но отказать себе в таком удовольствии мы не могли! На наше счастье, в те несколько дней, что мы провели на лесном озере, никто здесь так и не объявился, и наше «преступление» благополучно сошло нам с рук.
Приятелей в Эрглях у меня не было, но вынужденное одиночество я переносил здесь довольно легко. Во-первых, в хорошую погоду мы с Борей могли купаться в озере, во-вторых, я подружился с личным шофером Илечки Иваном Александровичем, который потихоньку начал обучать меня премудростям сельского быта. Он и его жена Нина с двумя дочками-погодками жили на втором этаже в том же доме, что и мы; у них была корова, для которой надо было заготавливать сено на зиму, и дядя Ваня прежде всего научил меня косить.
Для людей, мало сведущих в вопросах ведения сельского хозяйства, должен сообщить, что косить можно либо рано утром на рассвете, либо сразу после заката солнца, пока на траве лежит роса. Сухую траву косить практически невозможно: коса лишь приминает ее к земле и после того, как пройдешь по лугу хотя бы один раз, за тобой остается уродливая полоса торчащих в разные стороны пучков травы, сильно смахивающая на стриженную испорченной машинкой голову первоклассника. Поэтому встать нужно было пораньше, в три часа, на ходу плеснуть в лицо ледяной водой из умывальника, галопом проглотить обязательную овсяную кашу, запивая ее горячим какао, и, прихватив узелок со снедью, заботливо приготовленный мамой накануне, поскорее бежать во двор, где Иван Александрович уже заводил свой неутомимый газик.
Кто не вставал в такую рань, тот не знает, какое это удивительное чувство – ожидание восхода солнца. За спиной небо все еще по-ночному темное, и даже слабый свет звезд пробивается сквозь его густую синеву. А впереди, на востоке, изломанная очертаниями лесистых холмов, уже протянулась оранжевая полоса утренней зари. Чуть повыше яркие краски растушевываются, переходя в нежно-розовый фон, который понемногу сереет, съедая ночную тьму. Наконец из-за холма медленно вытягивается узенький край солнечного диска, и в ту же секунду разноголосый птичий хор оглашает округу радостным щебетаньем. День обещает быть жарким, но сейчас утренняя прохлада заставляет меня зябкое житься: дядя Ваня снял брезентовую крышу, и встречный ветер бросает навстречу летящему газику горькие запахи полыни и сладкий аромат луговых цветов. На душе так хорошо и радостно, что хочется кричать во всю глотку, пугая кувыркающихся в упругом утреннем воздухе ласточек и стрижей.
Угнаться за дядей Ваней мне, конечно, было не под силу. Он трижды прошел луговую поляну из конца в конец, а я и трех четвертей не осилил. Но это меня совершенно не волновало. Главной целью моей было получить одобрение шефа, то есть Ивана Александровича. И когда он, придирчиво оглядев мою работу, чуть улыбнувшись, произнес: «Ну что ж, Сережа?.. Молодец!» – я был счастлив. Меня так и распирало от гордости.
Солнце поднималось выше и выше, становилось жарко. Пот ручьями стекал по моему лицу, руки налились свинцовой тяжестью, я изо всех сил старался не показать, что мне трудно, но, когда услышал: «Шабаш, перекур!» – с наслаждением рухнул на землю в только что скошенную траву.
Потом мы завтракали, и свежий хлеб с маслом, крутые яйца, холодное молоко и толстый шматок сыра с тмином никогда не казались мне такими вкусными, как этим жарким июньским утром. Домой мы вернулись после двух. Но прежде чем пообедать и лечь спать, отправились на озеро, чтобы смыть с разгоряченных тел полуденную пыль.
«Вечером косить пойдешь?» – спросил дядя Ваня. «Конечно, пойду», – без тени сомнения ответил я. Но когда часов в пять мама стала будить меня, я не смог пошевелить ни рукой, ни ногой. Жестокая крепотура сковала мышцы так, что, казалось, отныне я смогу передвигаться только на костылях.
«Ничего, отойдешь, – посмеиваясь, успокаивал меня Иван Александрович. – Завтра побежишь резвее прежнего». И ведь прав оказался: не назавтра, конечно, но через пару дней крепотура прошла, и я опять отправился с дядей Ваней на луг, но теперь уже не косить, а ворошить подсохшую траву.
Мне нравилось быть наравне со взрослыми, выполнять ту же работу, что и они, потому что в собственных глазах я сразу становился взрослее. А какому пацану в 14 лет не хочется выглядеть старше? И лишь однажды я должен был признать себя абсолютным «слабаком».
А дело было так.
Нелегкая занесла нашего неутомимого Первого секретаря в Соединенные Штаты. Там в Алабаме или Техасе Никита Сергеевич увидел кукурузу под три метра ростом, влюбился в длинноногую американку и возжелал, чтобы на полях нашей необъятной Родины тоже росла точно такая же. Вернувшись домой, наш кремлевский мудрец распорядился, чтобы на следующий год на полях всех союзных республик была посеяна «царица полей». Даже специальный мультфильм под названием «Чудесница» по этому поводу сняли, и в Москве у Красных Ворот открыли одноименное кафе. Эргльский район Латвии издревле считался животноводческим. Рельеф здесь был холмистый, поэтому выращивать пшеницу или рожь на холмах было не с руки, а вот пасти скот на богатых травяной смесью лугах – в самый раз. Никогда и нигде я не видел, чтобы трава вырастала по пояс взрослому человеку, как это было на эргльских лугах. Представляете, как жировали на таких кормах коровы и прочие парнокопытные?.. Но!.. «По хрущевскому велению, по Никитину хотению» эти роскошные луга были перепаханы и засеяны новомодной кукурузой. Невдомек было только кремлевскому «кукурузнику», а заодно с ним и партийным функционерам рангом пониже, в том числе и моей тетушке, что все эти травы – и клевер, и вика, и люцерна – многолетние растения. Партийным боссам это простительно: сельхозакадемий они не заканчивали и вообще отличались не слишком высоким уровнем знаний, кроме марксизма-ленинизма, естественно. Это поднимало их в собственных глазах над другими людьми, но в практической жизни частенько оборачивалось грандиозным конфузом. Так оно и в данном случае произошло.
Когда по расчетам малосведущих в кукурузных делах агрономов пришла пора бороздить кукурузные всходы, они вывели на поля технику и… обомлели. Там, где по весне чернела свежевспаханная земля и где теперь должны были зеленеть дружные всходы, вовсю бушевало прежнее разнотравье, так что всходы эти и при самом ближайшем рассмотрении найти было практически невозможно. Не захотел старина клевер, а вместе с ним красавица-вика и неженка люцерна идти на поводу партийной дури.
Что делать? Катастрофа!..
Но недаром еще Владимир Ильич прокартавил: «Большевики перед трудностями никогда не пасуют». Директиву ЦК хочешь не хочешь, а выполнять надо. Поэтому, посовещавшись немного, решило партийное начальство все эти заросшие «сорняками» поля… прополоть. Вручную!.. Спецтехнику для этого еще не придумали. А ведь это не огородная грядка, а поля в сотню гектаров!.. Колхозники в открытую стали над ними издеваться. И вот, чтобы чуть умерить народное недовольство, решил районный партактив на собственном примере показать, как с этой напастью следует бороться.
В одно солнечное воскресное утро весь аппарат Эргльского райкома партии под руководством «вождя районного масштаба» с песнями на двух машинах выехал на поля ближайшего совхоза, чтобы начать общерайонную кампанию по прополке «царицы полей». Я, естественно, увязался за «вождем», то есть за тетей Илей.
То, что мы увидели, когда прибыли на место, превзошло все самые пессимистические ожидания. Во-первых, кукурузы никто не увидел. Даже те, кто знал, как она выглядит. Трава чуть ниже пояса, и все. Приехал директор совхоза и показал, где и как следует искать кукурузные росточки. Глядя на них, нам всем хотелось плакать. Честное слово! Такими они были жалкими, несчастными.
Технология прополки была такова: во-первых, найти кукурузный росток и по возможности не спутать его с каким-нибудь другим растением; во-вторых, постараться выдрать вокруг него в радиусе хотя бы 15 сантиметров кормовую траву и сорняки и, в-третьих, подгрести к основанию драгоценного растения побольше земли, чтобы взошедшая кукурузинка из-за отсутствия опоры не сломалась под напором природных стихий – ветра или дождя. Я видел, как помрачнело лицо моей тетушки и глубокая складка крайней озабоченности прорезала ее лоб возле переносицы. «Ну что ж, – сказала она. – Начнем!» И первая встала на колени, скрывшись за стеной травяных зарослей. Остальные потянулись за ней.
Помню, день был солнечный, жаркий, и часа через полтора я, во-первых, обгорел, а во-вторых, совершенно выбился из сил. Выдирать многолетнюю траву из земли оказалось делом очень и очень трудным. Оглянувшись назад, я увидел, что прополз всего метров десять, не больше. Двигаться дальше не было сил, я упал в тень райкомовского газика, и даже если бы мне, как Степе Лиходееву у М.А. Булгакова, сказали бы: «Вставай, а не то мы тебя расстреляем!» – я бы ответил точь-в-точь как Степа: «Стреляйте!»
У взрослых дела шли получше, хотя я собственными глазами видел, как некоторые, по ошибке выдрав кукурузный росток из земли, поспешно закапывали его опять в надежде, что никто не узнает.
К обеду стало ясно: чтобы прополоть все поле, потребуется несколько дней. Никогда я не видел Эльзу Антоновну такой взбешенной. Тут же на поле она провела заседание бюро райкома, которое постановило: «Полоть кукурузу руками бесполезно!..» После чего весь аппарат райкома сел в машины и поехал домой. Песен, правда, уже не пели.
За этот самовольный поступок моей тетушке на парткомиссии ЦК сурово погрозили пальчиком и «поставили на вид». Но именно благодаря Э.А. Кругловой в нашем районе о кукурузе больше никто даже не заикался. А годика через полтора вслед за оппортунистами из Эрглей вся наша необъятная страна примирилась с тем, что алабамская красавица в наших климатических условиях не прижилась. И хотя я никогда не слышал, чтобы Илечка непристойно выражалась, хотя она боготворила Никиту Сергеевича за то, что своим докладом на ХХ съезде партии тот вернул честное имя ее мужу, в данном, конкретном случае она ругнулась по полной программе. И ведь за дело. Слава Богу, никто из ее коллег не стал доносить в КГБ, какие новые звания присвоила моя тетя Генеральному секретарю ЦК КПСС, а не то бы загремела Эльза Антоновна из своего райкомовского кресла так, что и костей не собрала бы ни в жисть.
Дом, в котором жила Иля, отапливался печами, и на зиму нужно было заготовить дрова. Я с готовностью взялся за это нелегкое дело. Прежде всего необходимо было распилить здоровенные куски березовых стволов на чурбаки нужного размера, а затем уже расколоть их на поленья. Пилить дрова двуручной пилой одному – дело совершенно безнадежное, поэтому в помощники я взял брата Борю. О чем в дальнейшем сильно пожалел.
Конечно, он был не виноват в том, что, когда мы стали поднимать березовый ствол, чтобы положить его на козлы, братишка не выдержал такой тяжести и уронил свой конец. Я попытался удержать свой, в области поясницы у меня что-то противно хрустнуло, и с детских лет я стал страдать старческим недугом, а именно – радикулитом. Но это еще не все. На указательном пальце левой руки у меня на всю жизнь остался шрам от злополучной пилы. Очень трудно начать распил полена, особенно если пильщики не слишком опытны, а мы с Борей занимались этим впервые в жизни. Пила постоянно прыгала у нас из стороны в сторону и в один злосчастный момент соскочила с полена и прошлась своими острыми зубьями не по дереву, а по моему указательному пальцу, содрав кожу до кости. Засунув пораненный палец в рот, я побежал в дом, чтобы мама залила его йодом и перебинтовала. В принципе травма была пустяковая, но, когда я вынул палец изо рта и увидел выступившую из ранки кровь, все поплыло у меня перед глазами, и я благополучно грохнулся в обморок, вдобавок ко всему больно ударившись головой об угол кухонного стола. Оказалось, я не могу выносить вида собственной крови. Я был страшно раздосадован этим обстоятельством: подобная инфантильность приравнивала меня к слабому полу. Позор!..
В Эрглях я впервые в своей жизни ездил с Иваном Александровичем на ночную ловлю раков. В Житомире мы с пацанами ловили раков в Каменке. Борис, брат Толика Смоляницкого, знал рачьи места, и мы, забравшись по пояс в воду, шарили голыми руками под прибрежными корягами и валунами, лежащими на дне. Результатом такой «охоты» была пара-другая раков и прокусанные до крови острыми клешнями наши беззащитные пальцы. Потом, уже в Риге, я с дядей Эльмаром как-то ездил на станцию Баббите (это по дороге в Юрмалу). Там мы в канале ловили раков на приманку. К самодельной сетке на длинной палке он привязал куски чуть подгнившего мяса и опустил это хлипкое сооружение в воду. Потом мы долго сидели и уныло ждали, когда же наконец кто-нибудь из бестолкового рачьего семейства прельстится столь неаппетитной, на мой взгляд, закуской и залезет в сетку. Когда какой-нибудь чудак решался на подобное безумие, надо было осторожно, но быстро вытащить сетку из воды. Случалось, добыча уходила из-под самого нашего носа: почуяв неладное, рак отпускал протухшее «лакомство» и плюхался обратно в воду. А бывало, ему удавалось оторвать от привязанного к сетке мяса изрядный кусок и невредимым уползти восвояси. Незадачливые раколовы опять оставались ни с чем. Таким образом, за целый день мы с дядей Эльмаром наловили штук двадцать разнокалиберных особей: и тех, которые «за 5 рублей», и тех, которые «за 3».
Совсем другое дело ночная ловля!.. Оказывается, в темное время суток раки выползают на берег. Не знаю, чем вызвана эта их миграция, но, по-моему, они совершают самую большую глупость в своей недолгой жизни. Намотав на палки ветошь, смоченную бензином, мы с пылающими факелами ходили вдоль берега и голыми руками, но ничуть не рискуя осторожно брали их за спинку и бросали «мигрантов» в цинковое ведро. При этом, само собой, выбирали только самых крупных, самых упитанных. В эту ночь мы собрали полтора мешка самых отборных раков. Тут же на берегу развели костер и сварили первую порцию… Потом вторую… С перчиком, лавровым листом и душистым укропом… Пальчики оближешь!..
А вернувшись рано утром домой и вывалив свой улов в чугунную ванну, мы воочию убедились в преимуществе ночной «охоты» на раков перед всеми прочими способами добычи этого деликатеса. Ванна наполнилась более чем наполовину. Ни раньше, ни потом мне не доводилось видеть их сразу в таком количестве.