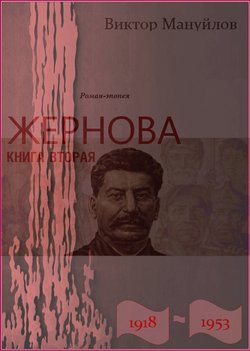Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга вторая. Москва – Берлин – Березники - Виктор Мануйлов - Страница 10
Часть 5
Глава 10
ОглавлениеНа другой день состоялся Пленум ЦК. Его участники выглядели как никогда суровыми, неприступными, исполненными непреклонной решимости.
На Пленуме обсуждались по существу те же вопросы, что и на прошлогоднем (1928 год) июльском Пленуме, и главный среди них – о дополнительном налоге на крестьянство, о введении в этой связи чрезвычайных мер.
Обсуждение необходимости принятия чрезвычайных мер в вопросах заготовок продовольствия и коллективизации прошло быстро, против не высказался никто. Наоборот, все выступающие поддерживали линию Политбюро и товарища Сталина, доказывая, что она единственно возможна в сложившихся обстоятельствах.
Выступил и Бухарин. Он отрекся от своей недавней позиции, заявив, что его взгляды были ошибочными, пообещал всеми силами бороться с правым уклоном.
Однако отречение и самобичевание не помогли. Решение об исключении Бухарина из Политбюро и с поста Председателя Коминтерна было предрешено, вопрос обсуждался не более пяти минут, и Николай Иванович, стоя выслушав резолюцию пленума, кажется, впервые не столько понял, сколько почувствовал, что история повернула на какую-то другую дорогу, а может быть, и не на дорогу вовсе, а на что-то, что имеет иное название. Почувствовав это, он сам себе показался древним стариком, для которого все позади: и революция, и социализм, и сама жизнь.
Покинув зал заседания пленума ЦК, Бухарин шел длинными коридорами, мимо курящих кучек его участников, все еще что-то обсуждающих, слышал их голоса, в которых ему чудилось торжество победителей. Он шел, ни на кого не глядя, чувствуя, что вокруг него образовалась глухая пустота, осязаемая каждой клеточкой тела.
Придя к себе на квартиру, Николай Иванович оделся и, ничего не ответив на испуганный взгляд жены, вышел на кремлевский двор, миновал ворота Кремля, с минуту смотрел на темную сумрачную громаду Василия Блаженного, подумал по привычке, что давно пора этот символ вопиющего русского национализма и шовинизма стереть с лица земли, повернул налево, прошел мимо Мавзолея Ленина, но не задержался перед ним как обычно, а мельком глянул в его сторону и, опустив голову, зашагал дальше.
Бухарин не знал, куда идет. Тоска гнала его подальше от Кремля, ему хотелось затеряться в людской массе, успокоиться, привести в порядок свои мысли и чувства. Но он все еще жил Пленумом, переживал сказанное другими против себя, искал не найденные вовремя аргументы в свою защиту, находил и даже замедлял шаги, точно раздумывая, не вернуться ли ему назад, не предъявить ли эти аргументы? Вот всегда с ним так: пасует перед наглостью, перед оговором, тупеет, теряет гибкость мысли и даже память. А другие пользуются этой его слабостью. Другое дело, когда перед тобой лист бумаги, а в руках перо, и можно перечеркивать написанное, заменять одни фразы другими…
Время едва перевалило за пять часов пополудни, но день давно погас, дома смотрелись мрачно, провожая Николая Ивановича тусклыми окнами, за которыми теплилась чужая и непонятная жизнь. Люди, встречавшиеся ему на пути, не знали, кто он такой, откуда идет и что с ним только что приключилось. У них свои заботы, и казалось, что Кремль – это совсем отдельно, это остров посреди океана равнодушия и беспечности. Людям нет дела до Бухарина, отдавшего почти всю свою жизнь ради этих людей, ради изменения их тусклой и бессмысленной жизни. Ни у кого из них не дрогнет и не заболит душа, не откликнется на боль его души. А так хотелось сочувствия, товарищеского участия, чтобы кто-то выслушал и понял. И не надо аплодисментов, криков ура, возгласов одобрения. Нужны тишина и верность.
Бухарин шагал по полутемной Тверской. Мела поземка, ботинки в калошах скользили по наледям. Вчера зима лишь заявила о себе, а сегодня она прочно обосновалась на московских улицах, на карнизах и крышах домов. Город преобразился, а жизнь Бухарина шла сама по себе, более того – она будто остановилась. Впереди ни просвета, ни слабого огонька… Правда, за ним остались кое-какие должностишки, он все еще член ЦК, член Президиума ВСНХ, за ним оставили пост главного редактора "Известий", но это так мелко по сравнению с тем, что было.
Но каковы Рыков и Томский! Да и многие другие… Как все они пресмыкались перед Сталиным, как лебезили, как унижались! А может быть, так и надо? Может быть, ради идеи, ради дела имело смысл поступиться своей совестью, своей гордостью? Да, он отрекся, да, покаялся, но, видать, не те слова говорил, не тем, может быть, тоном, – и они не поверили. Ведь вот же и Ворошилов, и Молотов – они-то ведь как-то умеют удержаться рядом со Сталиным. И не затем ли приглашал его вчерашним вечером Сталин, чтобы Бухарин занял место среди его, Сталина, безропотных соратников? Теперь он в стороне, все пойдет без его участия, без его влияния.
Какой-то прохожий в меховой шапке пирожком толкнул Николая Ивановича в плечо – ноги заскользили по наледи, Николай Иванович с трудом удержал равновесие, оглянулся: прохожий уходил, не извинившись.
Еще кто-то налетел на Бухарина, злобно крикнул:
– Чего р-рот р-раз-зявил, шля-апа?
Кто-то злорадно хихикнул, кто-то свистнул.
Создавалось впечатление, будто люди все-таки знали, что он только что потерпел очередное поражение, что он уже не бог, на которого они еще вчера боялись показывать пальцем, что он в одночасье превратился почти в ничто, и теперь любой может его унизить и не понести за это никакого наказания.
Николай Иванович поспешно свернул в переулок, сердце бешено стучало в груди, воздуха не хватало.
Что ж это теперь – так и будут его толкать все, кому ни лень? Его, Бухарина, который… Годы мытарств, тюрем, ссылки, эмиграции… Ведь не для себя же, для людей, в том числе и для того, в меховой шапке пирожком, который не извинился… А в Париже, Женеве, Берлине – нет, там все было не так: люди культурные, вежливые, даже рабочие… Могут, конечно, освистать, но чтобы толкнуть и не извиниться… А здесь, в России… такое озлобление, будто он, Бухарин, чем-то перед этими людьми виноват. Все – чужие, всё – чужое, все опротивело, надоело… Как мог отец любить эту страну, как мог любить этот народ? Наверняка в его утверждениях присутствовали лишь обычные интеллигентские самоубеждения и лицемерие.
Хотелось плакать, выть от тоски.
Вдруг ни с того ни с сего вспомнилась недавняя встреча с ходоками из Воронежской губернии. Кряжистые мужики, с обветренными, задубевшими лицами, корявой речью пытались доказать ему, что они вовсе не кулаки, что они из бывших батраков, что им советская власть – спасибо ей! – дала землю, что они только-только на ноги встали и вот: раскулачивают, высылают за Урал. Где же справедливость? Почему работящего человека – к ногтю, а пьяницу, гультяя, лодыря – наверх? Почему?
И совали ему под нос свои черные ладони, покрытые толстой мозолистой коркой.
Он так и не смог им ничего доказать. Небось, маются теперь на чужой стороне. Что ж, классовая борьба – она не слишком-то церемонится с людьми, не вникает в оттенки. Для классовой борьбы нет полутонов, и с этим ничего не поделаешь. Но он-то, Бухарин, тут при чем? Он к этой борьбе причастен лишь как теоретик, он лишь разрабатывал ее основы, а всякие там нюансы, полутона – дело практиков, дело местных представителей власти…
Конечно, искривления и все такое прочее имеют и будут иметь место, но опять же: он-то тут при чем? И куда он теперь со своими талантами, знаниями, планами? Кому они теперь нужны? А вдруг так и не потребуются? Вдруг обойдутся без него или, что еще хуже, вычеркнут из истории Бухарина Н. И., будто никогда и не бывало такого революционера и политического деятеля?
И снова перед взором Николая Ивановича возник длинный стол президиума, покрытый красным сукном, преисполненные решимости лица членов Политбюро и ЦК.
Да, что-то все они знают такое, чего не знает Бухарин. Иначе откуда в них такая уверенность в правоте, что никакие слова не могут заставить их усомниться в этой уверенности?
Но разве не та же уверенность поднимала недавно и самого Бухарина? Или это уже нечто другое?
Николай Иванович несколько минут стоял в темном углу подворотни, глядя невидящими глазами в обшарпанную стену. Однако его изощренный ум не мог слишком долго оставаться в плену мелочных фактов, даже если эти факты целиком и полностью относились лично к нему. Он не любил факты и боялся их. Да и сами факты надо было куда-то поместить, найти им оправдание… или хотя бы объяснение с точки зрения марксизма-ленинизма, с точки зрения диалектики.
Где-то в его подсознании промелькнуло что-то такое, какая-то зацепочка, с помощью которой можно объяснить и оправдать. Да-да, и оправдать! Ибо даже ошибка, отклонение в сторону от столбовой дороги марксизма имеет свое диалектическое толкование…
Отклонение! – вот именно. Обочина! Да, это как раз то слово, за которым стоит многое.
Николай Иванович почувствовал тот давно известный ему зуд, когда в мозгу рождается нечто значительное. Скорее домой, за письменный стол, развить, дать марксистскую оценку. Обочина! Где он слыхал это слово? Само по себе оно не могло обратить на себя его внимание. Кто-то его произнес в осуждение пути, на который большевики будто бы повернули страну.
Ах, ну да: крестьянин-ходок с хитрыми такими глазами! Именно – сугубо хитрыми, не умными. Как это он сказал-то? Что-то вроде того, что вам, большевикам, блазнится (словечко-то какое!), будто вы Расею поставили на дорогу к земному раю, ан нет – на обочь вы ее поставили, а там, ежели вскачь, то и без колес, и без телеги можно остаться, конь ноги переломает, на чем ехать-то станете?..
Философ, как же, едри его…
Тогда оно, это слово: "обочь", "обочина" покоробило и оскорбило Николая Ивановича. А ведь в нем нет ничего оскорбительного. Действительно, они, большевики, столкнули Россию на обочину, но сделали это преднамеренно, потому что, строго говоря, никаких дорог у человечества нет, а есть лишь направления: либо то, по которому до сих пор шел весь мир, – путь медленной эволюции, путь эксплуатации и войн, путь, который для многих, кто тащится сзади, кажется наезженной дорогой, либо обочина. А на обочине, как водится, ямы, колдобины, овраги, грязь… И по этой-то обочине надо не просто двигаться, а двигаться быстрее всех, обгоняя всех, преобразуя обочину в столбовую дорогу и доказывая всему миру… Да-да! На обочине может и вытряхнуть – при такой-то езде. И многих уже вытряхнуло. Что поделаешь. Вот и его вытряхнуло: не удержался. Все правильно, все верно. И глупо брюзжать. Надо работать, находить себе новое место в общем строю. А уж время покажет…
Домой, в кремлевскую квартиру, не хотелось.
И Николай Иванович углубился в переплетение кривых переулков, свернул к знакомому дому, где жили Ларины-Лурье и где он находил то, чего не мог найти в собственном доме: участие, заботу, понимание и даже ласку. У Лариных подрастает такая чудесная девочка, обещающая стать красивой и умной женщиной. На нее так приятно смотреть и мечтать о том времени, когда… А может, счастье – это всего лишь любимая женщина, а все остальное, как раньше говаривали, от лукавого?