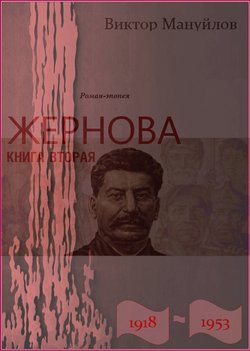Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга вторая. Москва – Берлин – Березники - Виктор Мануйлов - Страница 17
Часть 5
Глава 17
ОглавлениеИз большого дома появился вчерашний начальник охраны, сбежал по ступеням, встал внизу, застыл черным истуканом. Через минуту в легкой куртке, с открытой грудью, в кожаной фуражке, плотно сбитый, пышущий здоровьем и силой, вышел на крыльцо товарищ Косиор. Оглядел площадь холодными волчьими глазами. По толпе прошла тревожная рябь, постепенно затихли вой и причитания, толпа повернулась к Косиору, замерла в напряженном ожидании.
– А вы как думали! – гулко прокатился по площади зычный голос, и стаи галок и ворон сорвались в серебристой пыли с опушенных инеем тополей, заметались, оглушительно галдя, над головами людей, но через пару минут, успокоившись, вернулись на свои места, лишь иней продолжал искриться в воздухе, опускаясь на женские шали, солдатские шинели и буденовки, на гривы лошадей.
– А вы как думали! – повторил Косиор и посмотрел на тополя, на черные гроздья ворон и галок. – Вы думали, – продолжил он, – что советская власть с вами шутки шутить будет? Вы думали, что большевики свершили великую революцию для того, чтобы вы тут жировали, а рабочие пухли с голоду? Вы думали, что большевики и товарищ Сталин объявили коллективизацию крестьянских хозяйств от нечего делать, и вы можете это объявление большевиков и товарища Сталина бросить в отхожее место и поднять на вилы лучших представителей советской власти? И вам ничего за это не будет? Так вы думали? Вы, сытые, сосущие кровь заводских рабочих и сельской бедноты!..
Оратор задохнулся от ненависти, повел головой, будто воротник косоворотки душил его, выбросил вперед руку.
– Нет, вы не знаете большевиков! Мы не прощаем своим классовым врагам даже косого взгляда в нашу сторону. Сегодня косой взгляд, завтра косой по рабоче-крестьянскому горлу! Кто посеет ветер, тот пожнет бурю! Так было, так будет! Мы еще заставим вас жрать лебеду и крапиву! – выкрикивал он, рубя кулаком воздух. – Вы еще убедитесь, кто в этой стране хозяин! Вы еще пожалеете о своей глупости!
Голос оратора дважды повторило гулкое эхо, метнувшееся над притихшей площадью, окруженной домами, и разлетевшееся дробными осколками по пустым улицам и переулкам. Взметнулись и снова опустились на ветки галки и вороны. Толпа ответила глухим стоном и ропотом.
Косиор ладонью отер губы, обвел глазами площадь, обратился к маленькому, кругленькому человеку в кожаном пальто и заячьей шапке, стоявшему за его спиной, приказал:
– Читай, товарищ Бергман.
Маленький человек шагнул вперед, звонким голосом стал читать приговор, держа бумагу перед собой на вытянутых руках:
– Именем Украиньськой радяньськой социалистичной республики, – коверкая слова, читал Бергман: – Именем ее трудового народа… выездная коллегия верховного суда в составе: председатель – товарищ Бергман, члены коллегии товарищ Шикус и товарищ Серебряный, постановляет: за контрреволюционные действия, выразившиеся в прямом и массовом восстании кулацких элементов села Подникольское, направленные против советской власти и ее политики на всемерную коллективизацию крестьянских хозяйств, наиболее активных участников восстания приговорить к смертной казни через расстреляние, семьи этих активистов, как и прочих рядовых участников восстания, выслать в северные районы страны на вечное поселение с конфискацией движимого и недвижимого имущества. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
С минуту над площадью висела звонкая тишина. Даже галки и вороны притихли в ветвях тополей, и оттуда, сверху, молча взирали на плотную массу будто навечно окоченевших людей. Лишь было слышно, как бренчат удила верховых лошадей, как бьет кованым копытом в мерзлый снег высокий гнедой жеребец под командиром эскадрона. И вот, когда тишина уплотнилась настолько, что стало невозможно дышать, ее вдруг прорезал звериный вой какой-то бабы, и сразу же площадь, небо над нею, дома и улицы, дальние поля и овраги накрыл рев пятитысячной толпы. Она качнулась сперва в сторону большого дома, над которым висел поникший красный флаг и на крыльце которого толпилась небольшая кучка людей, но наткнулась на оскаленные морды лошадей и занесенные над головой шашки, отшатнулась от этого дома, качнулась к лабазам, замерла, напоровшись на частокол штыков.
Красноармейцы у красной кирпичной стены строили в колонну по три выкликнутых мужиков. "Неужели не здесь?" Бабель почувствовал себя глубоко обиженным и даже обобранным. Ради чего ехал в такую даль? Зачем мерз, стоял, униженный, под волчьим взглядом Косиора? Или тот передумал? Или пришла запрещающая директива? Ерунда какая-то…
Арестованные мужики стояли от него всего в двадцати шагах. Часто крестились, пялились в толпу, вытягивая жилистые шеи. Внимание привлек пожилой хохол с седыми усами. Вот он нашел то, что искал, сорвал с головы баранью шапку, выдохнул хрипло вместе с теплым облаком пара:
– Ганночку! Бережи дитэй! Дитятки мои!..
Крик этот отозвался в толпе звериным ревом, и она, сминая оцепление, вдруг бросилась в разные стороны – одни к лабазам, другие к сельской раде, где стояло приезжее начальство, но большинство в переулки и улицы, выходящие на площадь. Толпа несла в своих распадающихся потоках лошадей и всадников, шишаки буденовок.
Все перемешалось.
Мелькали расширенные от ужаса глаза, разверстые в крике рты. Люди падали, давили друг друга, матери волокли за руки орущих детей. Там и сям зацокали выстрелы, сорвался нестройный залп, зашелся длинной трескотней пулемет на церковной паперти, пули с визгом летели где-то сбоку от Бабеля, но ему не было страшно, он знал, что они предназначены не ему. Ему казалось, что он слышит, как смачно шлепаются пули в овчинные полушубки и свитки, протыкая их и входя в теплое, звенящее каждым нервом человеческое тело. Его же тело ликовало и дергалось, просясь в эту смертельную кутерьму.
"Сюда бы Мопоссана, уж он бы написал, этот сифилитик… Какое пиршество смерти и обновления жизни! Какой животный ужас – с одной стороны, и презрение к жизни – с другой! Впрочем, нет: это не презрение к жизни вообще, а к жизни врагов исторического прогресса. Да-да, только так, ибо революция – это всегда утверждение новой жизни через смерть старой, одряхлевшей… Точно так вызревший к новой жизни в благодатной долине Нила, избранный богом народ Израиля шел затем через трупы и реки крови к земле обетованной, к земле, обещанной ему его богом… Так нынче идем и мы, большевики…"
Слова, слагающиеся в мысли, точно пули проносились в мозгу. Бабель вздрагивал от каждого выстрела, каждого особенно громкого и жуткого крика. Но не отворачивался, не бежал, его властно тянуло туда, где вершилась смерть. Он скользнул вдоль ограды к углу лабаза, выглянул из-за него и стал жадно взирать на корчащиеся в предсмертных муках человеческие тела.
А узкоглазые красноармейцы, оправившись и сбившись в плотные ряды, наступали на толпу, выставив штыки и время от времени отбрасывая толпу слитными залпами.
Метались над площадью вороны и галки, уносились куда-то и возвращались назад.
На крыльце дома под красным флагом уже никого не было.
Минута, другая – все было кончено.
По улицам и проулкам скакали конники, метались темные кучки людей.
"Раскулачивание", – подумал Бабель и торжествующе оглядел площадь, на которой лежало с десяток-другой трупов и раненых, а возле лабазов – кучи человеческих тел.
"Все свершилось само собой, как и должно тому быть".
И тут Исаак увидел девочку, дочку Ганны. И саму Ганну в десяти шагах от нее. Девочка лежала на спине с широко раскрытыми глазами-вишенками, которые уже запорашивались сеющейся из ничего серебристой пылью. А Ганна… Ганна еще была жива. Она все пыталась встать на колени, но руки у нее подламывались, женщина падала, проходило несколько мгновений, она снова начинала шевелиться, вытягивала вперед руки и начинала медленно приподнимать тело…
Бабель смотрел на Ганну, и его все больше и больше охватывала знакомая дрожь нервного возбуждения. Он вспомнил ночь, горячее, но равнодушное тело хохлушки, утреннюю встречу с ее детьми. Он оказался прав: сгинула девчонка, а могла бы… хотя бы своим телом могла послужить… – ну да, революции! чему же еще? – а не так – сгинуть не за понюх табаку. Неосуществленное вожделение исторгло глухой стон из груди писателя.
К Ганне, уже почти вставшей на колени, подошел красноармеец, приставил к голове карабин, выстрелил. Женщина дернулась и уткнулась лицом в истоптанный снег.
Дернулся и задержал дыхание товарищ Лютов.
На другой стороне площади зачихал мотор автомобиля, с крыльца спустилось несколько человек, среди них Косиор. Он сел позади шофера, хлопнули дверцы, автомобиль взревел мотором и покатил. За ним с десяток конников в черных бурках, – будто черные вороны вцепились в гривы лошадей. Замелькали копыта, вытянутые конские хвосты. Через минуту все исчезло в серебристом снежном сиянии.
Кто-то тронул за плечо Бабеля. Он медленно повернул голову, глянул на человека в буденовке странно расширенными блестящими глазами, не узнавая его.
– Товарищ Лютый, – произнес милиционер Приходько, заикаясь. – Йихать пора. Пойихалы, товарищ Лютый, бо я туточки не можу бильш ни одней хвылыночки. Така хмара… Така хмара…
"Что говорит этот кретин? Куда ехать? Зачем? Или все уже кончилось? Так быстро? Нет, надо еще посмотреть… Вон еще одного дострелили… И еще… Странно, но я не чувствую того, что чувствовал раньше, на что рассчитывал… Нет чего-то такого… Нет того гибельного восторга, который охватывает душу и тело, охватывает и поднимает… Привык? Но разве к этому можно привыкнуть? Или сказывается возраст?.. А какое у Ганны было тело! Ах, какое тело! И дочка ее – совсем зазря… А такая свежесть, такая натронутость, незалапанность…"
Только когда копыта лошади знобко застучали по мосту через овраг, Бабель очнулся и огляделся по сторонам. Ярко светило полуденное солнце, нестерпимо блестел снег, в ивняке возились синицы, попискивали, сбивая с веток серебристую пыль. Вокруг лежало белое безмолвие, лишь откуда-то издалека доносился неумолчный, тоскливый собачий вой.
Бабель вдруг почувствовал сосущую пустоту в желудке, проглотил слюну, спросил у возницы:
– У тебя, Приходько, ничего нет насчет пожрать?
– Ни, товарищ Лютый. Ничого нэмае, – ответил Приходько и с изумлением посмотрел на седока.
– Скверно.
Товарищ Лютов сплюнул голодную слюну на убегающий снег, с головой завернулся в волчью доху, притих, свернувшись в комок. И не поймешь, что это лежит в розвальнях на сене – куль с мукой или человек.