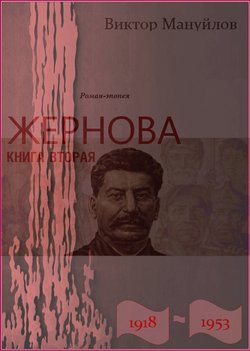Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга вторая. Москва – Берлин – Березники - Виктор Мануйлов - Страница 9
Часть 5
Глава 9
ОглавлениеСталин, вернувшись за стол, попыхивал там, в вышине, трубкой и поглядывал на Бухарина. Николаю Ивановичу показалось, что генсек только что поделился с ним своими сокровенными мыслями, призывая к дискуссии и сотрудничеству. Как хотелось, чтобы так именно и было. Сколько раз он, Бухарин, принимал неторопливые и с виду доверительные рассуждения Сталина за чистую монету, кидаясь, как в омут головой, в дискуссию. Но сейчас чувствовал, понимал, что в этом омуте совсем близко от поверхности торчит пока еще невидимое бревно, о которое можно разбить себе голову.
Нет, Николай Иванович на сей раз не рвался в дискуссию, догадавшись, что все сказанное только что, имеет к нему, Бухарину, самое непосредственное отношение. И не столько в теоретическом плане, сколько сугубо в личностном. Достаточно заменить рассуждения о кулаке и технических спецах рассуждениями о самом Бухарине, чтобы понять, что Сталин имеет в виду.
А поспорить есть о чем. В этих рассуждениях Сталина явно проглядывает его сползание на рельсы троцкизма, который он проклинает постоянно. А взять его более чем странную апелляцию к русской общинности, то есть практически к домострою, так это вообще ни в какие ворота! И, наконец, где хотя бы словечко о мировой революции?
Нет, лучше промолчать. Может, Сталин потому и нагородил всю эту несусветицу, чтобы еще раз спровоцировать Бухарина на… на…
Николай Иванович сплел пальцы рук, хрустнул суставами.
В голову пришла мысль: Сталин для того и позвал его в столь поздний час перед завтрашним Пленумом ЦК, что вопрос о кулачестве есть сугубый вопрос о власти самого Сталина, его авторитете, формально прикрываемый заботой о единстве партии, ЦК и Политбюро…
Но разве не Бухарин призывает в своих статьях и выступлениях к беспощадной борьбе со всякой фракционностью, всякими уклонениями от генеральной линии партии, грозя стереть в порошок всех явных, тайных, сознательных и бессознательных врагов советской власти? Разве не он учит трудящихся видеть перед собой конечную цель – мировую революцию и построение коммунистического общества, отбрасывая в сторону личные интересы, которые эту цель так или иначе заслоняют? И разве не он, Бухарин, помог Сталину свалить Зиновьева и Каменева, которые…
Да, именно он, Бухарин. Часто перешагивая через самого себя. Наступая на горло собственной песни…
Неужели прав Каменев, утверждая, что теперь очередь Бухарина расплачиваться за сотрудничество со Сталиным? Если это так… Да нет же! Не может этого быть! В нем еще столько сил, энергии, нельзя же, чтобы все это пребывало, как говорится, вещью в себе.
Так что же ему делать? Ведь Сталин зачем-то его позвал, это, быть может, последний и единственный шанс повлиять на него и, тем самым, сохранить за собой влияние и положение в ЦК и Политбюро, в партии, наконец… Не для себя, нет, для дела, ради революции.
Бухарин расцепил пальцы, снова сцепил, вывернул их, но хруста на этот раз не получилось. Почувствовав, как занемели спина и шея, откинулся на спинку кресла, судорожно вдохнул в себя воздух. Он ощущал перед собой глухую стену, но в этой стене непременно должна существовать какая-то трещинка, и ее необходимо найти. Если бы этой трещинки не было, Сталин не позвал бы к себе своего идейного, – как он полагает и полагает ошибочно, – противника. Сугубый практик, способный учиться лишь на своих ошибках, Сталин нуждается в поводыре-теоретике, который бы находил выходы из кризисных ситуаций, предсказывал развитие событий. Все, на что способен сам Сталин, так это толковать ленинские цитаты и оправдывать с их помощью свою практику.
Торопливо нанизывая мысли одну на другую, Николай Иванович совсем позабыл, что еще год назад хотел свалить Сталина, называл его Чингисханом, узурпатором, что его попытка объединить оппозицию против Сталина с треском провалилась еще весной этого же года, когда вчерашние соратники вдруг стали каяться в своих грехах и осуждать Бухарина за то, что именно он внушил им мысль совершить эти грехи.
Сталин не торопил Бухарина с ответом. Да и куда, собственно, спешить? Так ли уж важно, что скажет в свое оправдание политический труп? Какая-нибудь очередная импровизация? Слышали их немало… И кто это сказал, что Бухарин есть выдающийся теоретик марксизма? Ленин? Старик этого не говорил. Он говорил, что Бухарин выдающийся теоретик партии. Но не марксизма. И при этом оговаривался, что у Бухарина всегда были нелады с диалектикой… Но дело даже не в этом. Дело в том, что Бухарин меньше всего походит на теоретика, а больше всего – на соловья, который способен петь лишь свою песню и не слышать ничего вокруг. Бухарин всегда становился рабом своей точки зрения, лелеял эту точку и холил, обсасывал со всех сторон, стараясь навязать ее другим, и искренне удивлялся, если кто-то не принимал ее за окончательную истину. Проходило не так уж много времени, и Николай Иванович, очнувшись, переходил на другую позицию, чаще всего навязанную ему обстоятельствами, загорался вновь, начинал считать эту позицию своею и… и вновь закатывал глаза и заливался соловьиными трелями.
Бухарин излишне сосредоточен на мировой революции, которая сегодня для Советской России далеко не самое главное, а если так, то получается, что Бухарин сосредоточен на самом себе, и вряд ли сможет измениться. Да, он поддерживает курс на индустриализацию, он поддерживает курс на коллективизацию, но с такими оговорками, что от этого курса на практике ничего не остается. Как говорится, горбатого могила… Вот именно.
"Боже мой! Боже мой! – в отчаянии восклицал про себя Николай Иванович, то сплетая, то расплетая пальцы. – Что же я должен сказать Ему? Чего Он от меня хочет?"
Бухарин заволновался, пальцы его засновали быстрее, лицо порозовело. Однако расстаться с мыслью, что он все еще нужен Сталину… то есть революции, было трудно. Тем более что других мыслей в голову не приходило. Да и Сталин явно ждет от него каких-то слов, каких-то разъяснений. Наконец, молчание попросту стало невыносимым.
И Николай Иванович заговорил, заговорил тихо, бессознательно подстраиваясь под размеренную и неторопливую речь хозяина кабинета и устоявшуюся тишину, но постепенно, как обычно, воодушевляясь.
– Видишь ли, Коба, наши с тобой разногласия не столь уж глубоки, чтобы они могли влиять на ход и, тем более, исход построения социализма. Я даже склонен думать, что такие непринципиальные разногласия по тактике нашему ЦК просто необходимы, ибо показное единодушие может вылиться в конце концов в сугубое (Сталин при этом болезненно поморщился: он не любил словечек-паразитов) прекраснодушие и поддакивание там, где это может нанести вред нашему общему делу.
"Плохо я говорю, – уныло подумал Николай Иванович. – Очень плохо и коряво, тем более что Сталину как раз и не нужно разномыслия", – но не остановился, продолжил с еще большим запалом…
Хотя речь Бухарина текла и плескалась, как горный ручей среди нагромождения камней, глаза его оставались потухшими, в них читалась обреченность, покорность судьбе.
"Конченый ты человек, Бухарчик, – подумал Сталин с удовлетворением. – А я-то предполагал, что за тобой стоит какая-то сила… А там – пустота".
Эта мысль развеселила Сталина, другой на его месте, может быть, рассмеялся, но Сталин даже усмешку погасил в усах, а блеск табачных глаз спрятал в облаке дыма. Уже не обращая внимания на то, о чем продолжал говорить Бухарин, он вызвал секретаря и распорядился:
– Чаю нам. И покрепче.
Николай Иванович осекся: он наконец-то заметил разительную перемену в облике Сталина, и интуиция подсказала ему, что он проиграл и проиграл окончательно, но вовсе не там, где предполагал, а в чем-то другом. Сознание, однако, не хотело мириться с поражением, оно еще цеплялось за что-то, за какие-то обрывки невысказанных мыслей, лихорадочно отыскивая новые слова и фразы, полузабытые цитаты…
И тут Николай Иванович попытался представить себя на месте Сталина, представить так, как не представлял прежде: то есть что не он, Бухарин, сидит в неудобном кресле и пытается найти нужные слова, а Сталин; что не Сталин ходит взад-вперед по ковру, попыхивая трубкой, а… Впрочем, дело не в трубке. А в чем же, черт побери?
А в том, уныло признался себе Николай Иванович, что ты никак не можешь себя представить на месте Сталина. И не в нынешней, так сказать, ситуации, то есть, не кто где сидит в данный момент в данном кабинете, а вообще: во главе государства, во главе партии, ее аппарата. Как ни крути, а нет у товарища Бухарина способности руководить страной и партией, умения лавировать между различными течениями, то примеряя их, то сталкивая между собой, находить золотую середину, а через некоторое время резко менять направление движения корабля, при этом не сомневаясь в своей правоте, не колеблясь, не останавливаясь перед решительными мерами. И нет другого такого человека, кто на сегодня мог бы заменить Сталина у руля этого корабля. Так что нечего тешить себя пустыми иллюзиями, а нужно либо впрягаться в работу вместе со Сталиным и его прихво… его приверженцами, либо отходить от дел. Другого пути нет.
Николай Иванович натянуто улыбнулся и пошутил:
– Я всегда ценил, Коба, твою способность улавливать суть рассуждений с полуслова. Сегодня мы, похоже, поняли друг друга с четвертушки.
– Вот именно, – хохотнул Сталин. – Сейчас попьем чайку, ты восстановишь свои силы, а то придешь домой, а там чайку-то поди и нету. Так что чайку не повредит.
– Да-да, конечно, спасибо, очень даже не повредит, – тоже хохотнул Николай Иванович, а внутри у него все запричитало: "Боже мой, как унизительно! Какое барское высокомерие! И к кому? К товарищу по партии… Да еще намек на семейные неурядицы… Какая подлость! Только бы пережить, перетерпеть… Время лечит, стирает и сглаживает недоразумения, исправляет ошибки… Они все равно без меня не смогут… эти недоучки, азиаты, обломовы… Они рано или поздно попадут впросак, прибегут, приползут к Бухарину. Но я не стану смеяться над ними. Я буду выше этого. Бухарин обязан быть выше…"
Секретарь принес чай, печенье, пирожки. Скосил на Бухарина внимательный и чуть насмешливый взгляд.
"Холоп – а туда же, за своим хозяином, – вдруг с ненавистью подумал Николай Иванович о Поскребышеве. – Кремлевский сторожевой пес, фанатик, прикажет хозяин – загрызет… – Беспричинная ненависть, однако, быстро остыла, Николай Иванович опустил глаза, подумал обреченно: – При чем тут этот холуй! Какое он имеет к тебе отношение! Никакого. Ни об этом надо думать, не об этом…"
Увы, в голове было пусто. До звона.
Бухарину пить чай в низком кресле неудобно, надо бы проявить характер и пересесть на стул, а еще лучше – отказаться от чая, раскланяться и уйти… с достоинством, подобающим его положению. Но он продолжал сидеть в неудобном кресле, тянуть из чашки горячий чай, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, уныло думая о том, что вот сейчас все кончится, он встанет и пойдет… длинные коридоры бывшего Сената, дверь квартиры, а там, за дверью… – ни сочувствия, ни понимания… А в этом большом кабинете останется Сталин, одержавший над ним очередную победу, суть которой он, Бухарин, так и не может уловить.