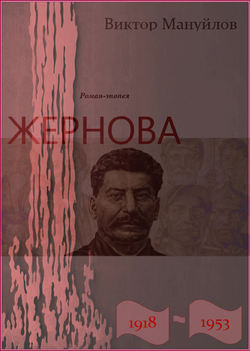Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь - Виктор Мануйлов - Страница 20
Часть 9
Глава 20
ОглавлениеЧерез некоторое время после размолвки с Марком слег Иван Поликарпович, и Александру стало не до своего одиночества: он ухаживал за старым художником, отоваривал в магазине-распределителе его и свои карточки, готовил на керосинке, кормил, бегал по врачам, пока не нашел Ивану Поликарповичу сиделку, пожилую женщину, страстную поклонницу живописи, из бывших, как потом выяснилось, аристократок.
Женщину звали Варвара Ферапонтовна, она нигде постоянно не работала, перебиваясь то переводами, то печатаньем на машинке, то сопровождая экскурсии по музеям и окрестностям Ленинграда, то, вот как теперь, ухаживая за больными художниками или литераторами, объясняя свое непостоянство неспособностью подолгу заниматься одним и тем же делом.
Варваре Ферапонтовне перевалило за пятьдесят, была она, однако, еще хороша собой, суха, подвижна, несколько, правда, многословна, но не навязчива, и пока был жив Иван Поликарпович, опекала заодно и Александра.
Варвара Ферапонтовна часто садилась сбоку от работающего Александра со своим вязанием и говорила, говорила, с какой-то удивительной легкостью бросаясь именами знаменитых российских и западных художников, поэтов и писателей, и речь ее, струящаяся ровно, как нить из клубка, не мешала Александру, отвлекала его от ненужных мыслей, воспоминаний, ассоциаций. Руки и глаза, и то, что смотрело его глазами на полотно, – вот все, что творило его тачечника. Под чистый русский говор Варвары Ферапонтовны писалось легко и радостно, и не думалось о том, что наступит миг, когда он закончит свою работу и надо будет показывать ее другим.
Однажды вот так же они сидели, журчал говорок Варвары Ферапонтовны, позванивали спицы, в голландке шипели и постреливали сырые дрова. За окном октябрь бушевал холодными ветрами, срывая с деревьев последние листья. Стояла та петербургская пора, когда люди сидят дома у затопленных печек и каминов, ведут неспешные беседы и радуются, что имеют над головой надежную крышу.
Неожиданно, в такую-то пору, пришел Марк с двумя другими художниками. Они увидели Варвару Ферапонтовну, смешались почему-то и стали торопливо уклалывать в принесенные с собой корзины вещи Марка, потом выносить полотна и кое-какие скульптуры.
Варвара Ферапонтовна при их появлении нахохлилась, поджала губы и не проронила ни слова. И Марк с товарищами тоже все делали молча.
Лишь когда все было вынесено, Марк отозвал в сторонку Александра.
– Я устроился в другом месте… Да. Так что вот так… А ты, я смотрю, совсем… – и он кивнул в сторону Варвары Ферапонтовны.
– Что значит – совсем?
– Ты, что, не знаешь, что это за дамочка?
– Она здесь сиделкой у Ивана Поликарповича.
– Неважно, кем она здесь, важно, что она бывшая княжна. Ничего не скажешь, хороша идиллия: член партии, бывший красный кавалерист и бывшая белая княжна. Союз бывших…
– Не вижу никакой связи, – пробормотал Александр, как всегда спасовавший перед Марком и его железной логикой.
– Ты не видишь, зато я вижу: старик внушил тебе твоего тачечника, а эта дамочка внушит тебе мир между трудом и капиталом. Как говорится, дальше некуда.
– Ничего она мне не внушит. Я как-нибудь сам, без подсказчиков.
– Ну-ну, дай бог вашему теляти волка зъисты, как говорят у нас на Могилевщине. Будь здоров, товарищ Возницын, – и Марк, не подав руки, пошел из мастерской. За ним, спохватившись, его товарищи, которые до этого с явным интересом разглядывали "Тачечника".
Александр нервно походил по мастерской, потом присел возле открытой дверцы голландки и загляделся на огонь. Он был расстроен, подавлен, ему казалось, что уход Марка – это что-то совершенно невозможное, и надеялся, что пройдет несколько дней, и тот вернется, и все пойдет по-старому: совместная работа в мастерской, по оформительству заводов и площадей, за что выдавали дополнительные пайки, шумные сборища, умные разговоры, творческие командировки – все то, что лежало на практичном Марке и покоилось на его многочисленных связях и знакомствах во всяких руководящих кругах.
Александр до того привык полагаться во всем на Марка, что теперь, когда тот ушел, будущее представлялось неясным и пугающим. В то же время Александр чувствовал, что за их разрывом стоит что-то более важное, чем его "Тачечник", чем его мнимое предательство, что Марку зачем-то этот разрыв необходим, что, в сущности, он произошел давно и нужен был лишь повод, чтобы разрыв этот оформить уходом.
Потерянность Александра не ускользнула от внимания Варвары Ферапонтовны.
– Я вам сейчас чаю приготовлю, – сказала она, откладывая в сторону вязанье. – Да вы, Саша, не расстраивайтесь, что ушел ваш приятель. Право слово, как я уже вам говорила, художник должен творить в гордом одиночестве. – И совсем уж неожиданно и как бы ни к селу ни к городу: – Вам жениться нужно. Пренепременно. И не на всякой женщине, не на первой встречной-поперечной. Жена художника или писателя должна тонко чувствовать своего мужа. При этом не должна слишком разбираться в его профессии, иначе этот союз распадется раньше, чем успеет вполне сформироваться, – говорила Варвара Ферапонтовна тоном, не терпящим возражений. – Она должна обожать своего мужа, считать его гением. И это в первую очередь необходимо самому художнику, чтобы поддерживалась в нем решимость идти по раз и навсегда избранному пути, ибо все настоящие художники одиноки и легко ранимы. Я давно кручусь среди вашего брата, – журчал ее неутомительный голос, – и поняла, что нет ничего более противоестественного, чем дружба двух художников. Если их и тянет друг к другу, то исключительно чувство соперничества, желание подсмотреть, не вырвался ли его коллега слишком далеко вперед. И я не встречала людей более удовлетворенных, если они убеждались, что их друг-соперник делает что-то не так. – А принеся чаю и бутерброды с селедкой, продолжила: – Была бы я помоложе, я бы женила вас на себе… Правда, когда я была помоложе, мне бы это в голову не пришло. И замуж я вышла не за художника, а за дипломата, князя Верновского… Слыхали о таком?
– Нет, не слыхал.
– Он умер в тринадцатом году, в Швейцарии, от рака желудка. Мне бы не возвращаться в Россию, а я вернулась. – И, отпив несколько глотков чаю, спросила: – Вы, надо думать, считаете меня завзятой контрреволюционеркой? Не так ли?
– Я не… Я как-то не думал об этом.
– Считаете! – убежденно воскликнула Варвара Феропнтовна. – А я, между прочим, помогала деньгами вашим большевикам. Лично Зиновьеву-Радомышльскому… – или как там его еще? – передала для Ульянова-Ленина пятьдесят тысяч. – Пояснила: – Зиновьев у него вроде казначея был, все денежные и другие дела его устраивал, так что Владимир Ильич без своего еврейчика – никуда. – И, вздохнув, заключила: – Дурой была.
– Почему же… э-э… дурой? Даже наоборот! – обрадовался Александр. – Нет, честное слово! Вы не думайте! Это сейчас так трудно, голодно и все такое. Сами понимаете. А вот понастроим заводов, фабрик, электростанций, крестьянин сядет на трактор – жизнь сразу станет лучше. Вот увидите.
– Да-а, хорошо быть молодым, – печально произнесла Варвара Ферапонтовна. – Вам еще жить и жить. Вспомните когда-нибудь свои слова, наш разговор, этот ветреный осенний день. И дай вам бог порадоваться своей правоте. А только я вам скажу, голубчик, что вот такие люди (она кивнула на полотно) – такие люди ничего путного не построят. Ведь это же раб – раб, прикованный к тачке. Рабы, конечно, пирамиду построить могут, и очень большую пирамиду, но разве для этого делали революцию? И разве ради такой революции я давала деньги Ульянову?
– Но почему же раб? Это совсем другое! Он лишь физически ограничен в своих действиях, а идейно… идейно он перерождается. Его, можно сказать, спасли от самого себя! – горячился Александр, не замечая, что, как всегда, повторяет чужие слова. – На воле бы он обязательно стал на путь открытой вражды, его бы втянуло в нее, как щепку в водоворот. А там… Там есть время осмыслить происходящее. Он еще не осмыслил, но он обязательно осмыслит и станет на пролетарскую точку зрения. Понимаете, эта точка зрения – такое великое дело, что как только человек осознает себя, так он сразу же преображается. Ведь вот и ваши, которые… дворяне там и князья… Ленин тоже был дворянином…
– Ну, какой он дворянин, прости господи! – отмахнулась Варвара Ферапонтовна. – Да и другие. Впрочем, это я сейчас такая умная стала, а тогда все это представлялось какой-то игрой. Модной игрой. Как подумаешь, какими идиотами были…
Александр поморщился.
– Я вас прошу, Варвара Ферапонтовна, не надо этого… агитации.
– Не буду, не буду! Простите меня, Саша. Ненормальные мы какие-то: о чем бы ни заговорили, обязательно свернем на политику. Право, ненормальные. А с другой стороны – что же делать, если вся наша жизнь зависит от политики и от людей, называющих себя политиками?
Иван Поликарпович умер в последний день октября.
В тот день выпал первый снег. Большие и пушистые снежинки медленно кружили за окнами, будто выискивая еще не забеленные места. И было странно сознавать, что Иван Поликарпович больше никогда не увидит этого молодого снега, потом молодой листвы, потом… и что наступит пора, когда и тебя тоже… а снег будет всегда, и солнце, и люди, и жизнь… то есть, не всегда, конечно, но тебя не станет, следовательно, и ничего не станет в то же самое мгновение, потому что так называемая бесконечность, это когда нас уже нет и когда нас еще не было, а жизнь человека, в сущности, всего лишь непознаваемое мгновение, нулевая точка в системе координат, как утверждают некоторые ученые.
Потом была суета с похоронами, и после поминок, на которые пришли лишь старые, отживающие свой век художники, Александр впервые остался один – один в целой мастерской с примыкающими к ней двумя комнатами. Он уже знал, что Иван Поликарпович завещал мастерскую ему, но знал также, что это завещание ровным счетом ничего не стоит, что Ленинградское отделение "Ассоциации художников революции", в которой он состоял, может распорядиться мастерской по-своему усмотрению. Знал это, боялся и надеялся, что его "Тачечник" позволит ему остаться здесь навсегда. Впрочем, название картины было другое: "Из прошлого в будущее".
В будущее Александр Возницин верил неколебимо.