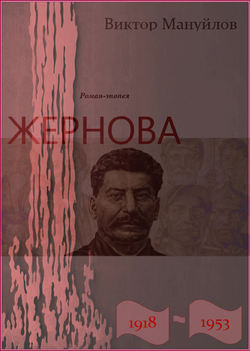Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь - Виктор Мануйлов - Страница 26
Часть 10
Глава 2
ОглавлениеА случилось так, что через несколько дней, как молодые ударники Ленинграда вернулись из Москвы, их пригласили в горком комсомола. Правда, Василий еще в комсомоле не состоял, потому что проходил испытательный стаж, но стаж этот вот-вот должен был закончиться, и ничто не мешало ему стать комсомольцем, зажить более полнокровной жизнью.
К тому времени Василий привык к своей новой фамилии, к своему положению рабочего человека, оторванного от родного дома, за плечами у него было уже девять классов, то есть среднее по тем временам образование, его ждал рабфак, институт, женитьба на девушке, которая ему нравилась… – короче говоря, жизнь его вошла в нужное русло, когда видно на много верст вперед, чувствуется стремнина и нет никакой возможности сбиться с правильного курса.
Итак, их, ездивших в Москву, пригласили в горком комсомола. Предстояло что-то вроде молодежного бала, и Василия одевали чуть ли не всем общежитием: кто дал ему новые брюки, кто пиджак, кто полуботинки, кто галстук, кто рубашку. Василия даже подстригли лишний раз свои же умельцы, хотя он перед Москвой стригся в парикмахерской.
Поговаривали, что с ними встретится сам Киров, а особенно отчаянные головы предполагали, что и сам Сталин, который будто бы сейчас как раз находится в Ленинграде по случаю предстоящего официального открытия Беломорско-Балтийского канала.
Одевшись во все новое, повязав впервые в жизни галстук, Василий глянул на себя в зеркало и чуть не ахнул: вот точно таким он и видел себя в будущем, когда станет инженером. Из зеркала на него смотрел очень статный и пригожий парень, все более начинающий походить на своего отца: и решительной складкою рта, и горбоносостью, и прозеленью, если хорошо вглядеться, в серых глазах, и дерзким взором, и бровями, слегка сросшимися на переносице; только волосы были мягкими и с рыжинкой – от матери.
Оценили его и ребята, помогавшие ему в сборах: жених, право слово, жених, хоть сейчас в Загс.
Приятно, черт побери, очень приятно!
В большом зале горкома собралось народу прорвища.
Путиловцы держались вместе. Сперва была торжественная часть, и, действительно, выступал Киров. Ему долго и яростно хлопали при появлении в президиуме, а еще дольше – после выступления.
Что там ни говори, а когда вот такой удивительный человек, как Киров, про которого ходят легенды о его участии в гражданской войне на Кавказе, обращается прямо к тебе и заявляет, что от твоих усилий зависит не только твое личное счастье и счастье всего советского народа, но и судьба мирового пролетариата и всех трудящихся масс, судьба грядущей мировой революции, то ты начинаешь понимать, что да, зависит, и при этом чувствуешь себя так, будто у тебя выросли за спиной крылья, и ты уже взлетел в вышину, откуда видно так далеко, что захватывает дух, а в горле образуется комок, и хочется умереть и за этого улыбчивого широколицего человека на трибуне, и за своего товарища, сидящего рядом, и даже умереть просто так, потому что дальше ничего такого испытать не придется, выше уже не поднимешься в своем сознании и в своей растворенности в этой массе таких же людей, как и ты.
А потом, после торжественной части, был концерт, а после концерта – танцы.
Василий танцевать совсем не умел и поэтому больше торчал то в буфете, где продавали лимонад и бутерброды, то возле какой-нибудь колонны, разглядывая танцующих и завидуя им. Здесь он решил, что обязательно выучится танцевать все танцы, какие только есть, чтобы и в этом деле быть не из последних. И еще он жалел, что рядом с ним нет Аллы Мироновой, что она не видит всего этого великолепия, но и без нее он был счастлив, потому что она незримо присутствовала здесь и как бы смотрела на него откуда-то из толпы.
И вот так Василий стоял и глазел по сторонам, когда возле него остановился человек с копною черных, свитых в мелкие кольца, волос, в толстостеклых очках на узком лице и слегка покривленным ртом. На нем был черный костюм, не очень новый, даже несколько лоснящийся на рукавах и бортах, синяя косоворотка, а над карманом пиджака разноцветные значки, говорящие о том, что человек этот не отстает от жизни и даже шагает в первых рядах. Однако в сравнении с нарядным Василием этот человек казался – несмотря на значки – просто замарашкой, и не стоило бы обращать на него внимания: мало ли кто ходит мимо и останавливается рядом, когда от народу прямо-таки рябит в глазах, но что-то было в этом невзрачном человеке, что заставило Василия напрячься, – что-то из недавнего прошлого, которое, оказалось, никуда не делось и всегда присутствует у тебя за спиной – стоит лишь обернуться.
Человек торчал рядом, в шаге всего, и временами внимательно вглядывался в Василия сквозь свои толстостеклые очки выпученными глазами. Василий всем телом ощущал этот настойчивый взгляд и понимал, что надо бы уйти, но ноги будто приросли к полу, а тело стало ватным и непослушным.
Страх, от которого, как ему казалось, Василий давно избавился, страх оттого, что он выдает себя за другого человека – за человека с незапятнанным прошлым – вновь овладел всем его существом, и светлое будущее стало меркнуть… меркнуть, и тогда Василий напряг всю свою волю и, понимая, что от судьбы не уйдешь, медленно повернулся к чернявому и сразу же узнал его: Монька Гольдман из местечка Валуевичи.
Глаза их встретились, – дерзкие и отчаянные Василия и подозрительно-испуганные Монькины. Но Монька, вместо того чтобы тоже узнать Василия и обрадоваться нечаянной встрече, вдруг стушевался, сдернул с носа очки и стал протирать стекла мятым и несвежим носовым платком, дышать на них и снова протирать, рассматривая на свет, пока Василий, в упор разглядывавший это его усердие, не успокоился и, пожав плечами, не повернулся и не пошел в глубину зала, раздвигая плечами танцующих.
"Ну, Монька Гольдман, ну и что? – спрашивал сам у себя Василий, слоняясь по залу. – У него и у самого отец – мелкий буржуй, нэпман, содержал и, может быть, до сих пор содержит парикмахерскую. И фамилия у него теперь другая… другая какая-то…", – силился вспомнить Василий и никак не мог, хотя Монька в Валуевичах был известным комсомольским активистом и несколько раз наведывался в бухгалтерско-счетоводческое училище по причине проведения массовых мероприятий. И даже читал там свои стихи.
Впрочем, там Монька Гольдман старался не замечать Васю Мануйловича, хотя когда-то почти два месяца жил с ним под одной крышей и ел за одним столом. А все потому, что Василий уже тогда, то есть в двадцать восьмом, и даже за год до этого, считался сыном кулака, и если его терпели в училище, то исключительно потому, что Гаврила Мануйлович немало извел муки, масла и меда на подношения директору училища и заврайоно, лишь бы дать Ваське образование и обеспечить ему прочное положение в этом шатком мире.
"Он, небось, и сам испугался, когда увидел меня, – думал Василий, оглядывая снующих мимо него радостных людей и не понимая их радости. – Наверняка испугался: вдруг возьму да и скажу, кто он есть на самом деле. – И, вспомнив Монькины усердия с очками, усмехнулся. – Очень мне это надо! Да и он сам – откуда он может знать, где я живу и работаю? Город-то эвон какой громадный! Это тебе не Валуевичи".
Но как Василий ни успокаивал себя и ни убеждал, спокойствия не прибавлялось, крыльев за спиной он уже не чувствовал и, немного погодя, ушел домой, никому из своих не сказавшись.
Время шло, но ничего не случалось из того, чего Василий боялся больше всего на свете, и он стал потихоньку забывать о встрече с Монькой Гольдманом. Да и не до того было. Во-первых, в конце сентября после заполнения всяких анкет и рекомендаций его приняли на годичный курс рабфака, как закончившего вечернюю школу; во-вторых, заводская техническая комиссия наконец-то, после нескольких месяцев проволочки, утвердила его рацпредложение по изменению конструкции чугунной станины для гидропресса, что давало большую экономию металла и улучшало качество отливок, до этого частенько выходивших с большим браком.
С Василием разговаривал по этому поводу сам директор завода, очень его хвалил, а партийный организатор завода, присутствовавший при этом, узнав, что Василий не комсомолец, очень удивился и сказал, что надо, надо срочно вступать в комсомол, а то и в партию, потому что именно такие сознательные и активные рабочие партии и комсомолу особенно нужны.
Ну и, в-третьих, Алка, эта непоседливая и заводная девчонка, комсомольская активистка из заводоуправления, пообещала Василию, что, как только он закончит рабфак и поступит в институт, так они сразу же и поженятся… Если он ее к тому времени не разлюбит…
Какой уж тут Монька Гольдман! Да и где он? Ау!