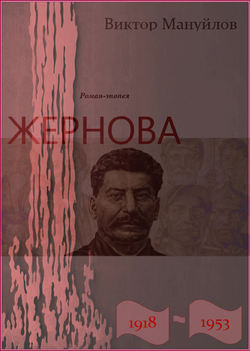Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга третья. Двойная жизнь - Виктор Мануйлов - Страница 21
Часть 9
Глава 21
ОглавлениеСтучала форточка на ветру, и стук ее отдавался во всем теле Александра, будто кто-то пытался достучаться до него и вывести из состояния пьяного парения между потолком и полом.
Иногда Александр широко открывал глаза, делал над собой усилие и говорил, часто вслух, ставшую уже привычной фразу: "Надо работать. Работать надо", но тело его, едва коснувшись выпирающих пружин дивана, снова начинало медленно подниматься вверх и покачиваться в теплых потоках воздуха, идущих от двух голландок. Он скользил и колыхался в этих потоках, поворачиваясь с боку на бок, но где бы он ни оказался, все время за ним следили ненавидящие глаза тачечника, преследовал хрип загнанной лошади, а стук форточки иногда становился таким назойливым, что тело стремительно начинало падать, и в спину впивались диванные пружины…
Надо бы закрыть форточку… Конечно, надо бы, но встать нет никаких сил… и тачка такая тяжеленная, так оттягивает кисти рук… колени дрожат, как после целого дня, проведенного в седле… колесо скрипит и стучит на выбоинах, глаза застилает пот, дышать нечем… форточка стучит все сильнее, от ее стука разваливается голова…
Александр с испугом поднял голову: стучали в дверь, похоже, колотили ногами или палкой. Он тяжело поднялся и поплелся к двери. Отодвинув засов, отступил в сторону – взъерошенный, опухший, с безвольно болтающимися длинными руками.
Дверь открылась, и через порог шагнула Варвара Ферапонтовна, в черном платке, в какой-то немыслимой шляпке поверх платка, с полураскрытым зонтом и кошелкой в красных озябших руках.
– Ну, я так и знала, что он спит! – воскликнула она, оборачиваясь к кому-то, кто стоял в полумраке лестничной площадки, так что Александр видел лишь неясный силуэт, тоже женский, но совершенно неподвижный.
– Входи, Аннушка, входи! – пригласила Варвара Ферапонтовна. – Вишь, хозяин-то совсем онемел от неожиданности. – И уже к Александру: – Вы, Александр Батькович, хотя бы кошелку у меня взяли. Эка вы, право: совсем статуя, а не человек.
Александр поспешно принял из рук Варвары Ферапонтовны кошелку и зонт и заторопился к дивану, чтобы убрать поскорее следы своего пьянства.
– Сама раздевайся, голубушка, – говорила между тем Варвара Ферапонтовна за спиной у Александра. – От этого кавалера не скоро дождешься помощи.
Пока они там, у двери, возились со своими пальто, развешивая их на крючки, вбитые в стену, пока снимали боты и расставляли их так, чтобы просохли, Александр кое-как привел в порядок себя и диван, и стоял теперь, переминаясь с ноги на ногу, смущенно улыбаясь, не зная, что ему делать, понемногу приходя в себя, но все еще не понимая, зачем эти женщины в его мастерской, когда ему никто – абсолютно никто – не нужен.
За окном быстро угасал серенький день, все так же, как и год назад, когда слег Иван Поликарпович, шумел ветер и полоскал дождь, с порывами ветра особенно настойчиво стучала форточка и горохом сыпались капли дождя по жести подоконника с наружной стороны, будто кто-то еще просился внутрь, в тепло и покой. Слабый свет снаружи едва проникал сквозь запыленные стекла, и мастерская быстро погружалась во тьму, тихо выползающую из черных углов, из-за плотно стоящих у глухой стены холстов.
Щелкнул выключатель, вспыхнула роскошная люстра и выгнала тьму за окна, и там она почернела и насупилась.
– Ну-ка, дай-ка я на тебя, Сашенька, погляжу! – произнесла Варвара Ферапонтовна, подходя к Александру и насмешливо оглядывая его с ног до головы. – Ну что ж, помят, растрепан, оброс, аки диакон, но еще ничего, ничего еще. Давеча была в Русском музее, надеялась тебя встретить, да не встретила. А картину твою видела… "Калейдоскоп" твой. И Маркову тоже… Не понимаю я этого нового вашего искусства. – Потирая озябшие ладони, остановилась напротив "Тачечника". – Ну, еще как иллюстрация к какой-нибудь расхожей мысли, уличное панно, символ какой-то абстрактной идеи, но только не реальная жизнь. Нет, не жизнь.
Повернулась к Александру, все еще переминающемуся с ноги на ногу, склонила набок голову.
– Видела там Марка и его дружков, ходят петушками: мол, коли советская власть наших новаций не понимает, тем хуже для советской власти. Но заметно, что петушки уже изрядно ощипаны. Не знаю, надолго ли хватит им их еврейского гонора. Жалко, однако, смотреть: бедные они, несчастные люди, так надеялись на революцию, так старательно карабкались наверх, а революция… Впрочем, нас тоже пожалеть надо бы, да некому… Спросила, кстати, о тебе. Сказал, что живешь затворником: то ли много работаешь, то ли много пьешь.
Варвара Ферапонтовна подошла к дивану, провела пальцем по спинке, посмотрела на палец, испачканный пылью, покачала головой, вздохнула.
– А я вот болела. Думала: все, отжила на этом свете, ан нет, выкарабкалась, и как на ноги встала, так и решила: пойду-ка навещу одного знакомого русского художника, как-то он там поживает… Да на всякий случай захватила соседку свою, Аннушку… Аннушка, подойди сюда, не бойся. Он хоть и бука, да еще пока не кусается.
Аннушка, барышня лет двадцати, высокая, стройная, с темными волосами, стянутыми на затылке в плотный калач, с тонким лицом и большими карими глазами, неброской красоты, но бросающегося в глаза обаяния, в длинном черном платье, уже вышедшем из моды, с глухим воротничком вокруг тонкой шеи, с крупными руками прачки, которые она не знала, куда деть, медленно приблизилась к Варваре Ферапонтовне и остановилась в двух шагах от нее, вспыхнув и потупив голову.
– Вот, Сашенька, это и есть Аннушка, – произнесла Варвара Ферапонтовна таким тоном, будто они раньше об этой Аннушке много говорили, и потому Александр должен о ней знать все.
Она взяла Аннушку за плечи, поворотила лицом к Александру, сама подошла к нему и встала рядом, склонив голову набок, будто это она сама произвела эту Аннушку на свет, но не естественным способом, а с помощью какого-то волшебства.
– Не правда ли, так и просится на холст? А? Чудо! Русское чудо! Ну-ка, голубушка, повернись в профиль! – велела Варвара Ферапонтовна, показывая руками, как надобно повернуться в этот самый профиль, и Аннушка, вспыхнув еще больше, медленно поворотилась и сцепила руки перед собой. – Нет, правда, чудо? – схватила Варвара Ферапонтовна Александра за рукав его куртки. – В ней есть что-то серовское. И, в то же время, она вполне современна. Между прочим, пролетарка, работает на "Светлане" и, что самое главное, интересуется живописью. Мы с ней в музее и познакомились.
– Варвара Ферапонтовна! – взмолилась Аннушка, и голос у нее оказался тоже чудом: грудным, глубоким, волнующим.
– Все, голубушка, все! И потом, Саша – он же художник, а художники смотрят на нас, смертных, совсем другими глазами, чем мы сами на себя. Уж ты мне поверь. – Резко повернулась к картине, ткнула в нее маленькой узкой ручкой. – Вот, Аннушка, смотри, это мы все. Ужасно, не правда ли? Вот и у него сейчас такие же глаза, – кивнула она в сторону Александра, затем обернулась к нему. – А что, Саша, когда-нибудь твой "Тачечник" попадет на выставку? По-моему, пора. А то ты, голубчик, засохнешь возле него. Законченная вещь превращается для художника в орудие пытки. Уж я-то знаю.
Потом пили чай в бывшей комнате Ивана Поликарповича, пили с пирогами, принесенными Варварой Ферапонтовной.
Комнату эту Александр занял по той причине, что она была меньше комнаты, в которой он жил когда-то вместе с Марком, и потому уютнее.
То, что в этой комнате на его глазах несколько месяцев назад умер Иван Поликарпович, Александра ничуть не тревожило, спать ему не мешало, даже наоборот: вещи, некогда принадлежавшие старому художнику и не востребованные его родственниками, внушали Александру чувство ответственности и благодарности за все, что Иван Поликарпович когда-то сделал для него и для Марка, но что они не умели ценить при его жизни. Зато теперь, когда Ивана Поликарповича не стало, его вещи как бы заступили место художника и смотрели на Александра его глазами, доброжелательными и строгими одновременно.
Не переставая говорила Варвара Ферапонтовна, похудевшая, осунувшаяся с тех пор, как Александр в последний раз видел ее, а сам он и Аннушка лишь иногда вставляли несколько слов, и то лишь тогда, когда их к этому принуждали, и время от времени поглядывали друг на друга исподлобья, торопливо опуская глаза, если взгляды их ненароком встречались.
Александр понимал, что Варвара Ферапонтовна не случайно привела Аннушку, что это следствие ее давнишнего обещания женить его, что она, надо думать, что-то такое рассказывала про него Аннушке и что Аннушка должна отвечать тем требованиям, какие Варвара Ферапонтовна предъявляет жене художника.
Хотя встреча эта была устроена нарочно и представляла что-то вроде смотрин, Александр не испытывал того смущения и неловкости, какие должен был бы испытывать и какие испытывал когда-то, когда его, Марка и несколько других художников кто-то повел в женское общежитие какой-то фабрики, уверяя, что девки там одна ядреней другой и без предрассудков. Там, в общежитии, они встречали новый год, перепились и потом спали вповалку, кто с кем придется. Скотство, конечно, но вполне в духе времени, то есть в духе свободы отношений между полами и раскрепощения женщины.
Чем дольше Александр присматривался к Аннушке, тем все больше она ему нравилась. Поначалу он действительно смотрел на нее глазами художника, как привык смотреть практически на всех людей, мысленно поворачивая их то так, то этак, видя их не живыми людьми, а как бы уже изображенными на холсте, и теряя всякий интерес к тем из них, кто на холсте смотреться никак не хотел.
Аннушка смотрелась. Она смотрелась и в анфас, и в профиль, и даже когда поглядывала на него исподлобья. Он уже видел, как она будет сидеть на стуле и позировать ему, представлял ее то ребенком, то уже пожилой женщиной, обремененной детьми, раздавшейся вширь, как раздавались у них на Псковщине все деревенские бабы, и ему было хорошо и уютно от этого представления, будто он долго шел к своему дому, наконец пришел, но не к той убогой и жалкой избушке, где вместе с ягнятами и телятами прошло его детство, а к чему-то светлому и высокому – и все это была Аннушка.
Привычно журчал говорок Варвары Ферапонтовны, казалось, будто он никогда и не прерывался, и всегда вот за этим столом сидела Аннушка и шумел самовар. Вот сейчас откроется дверь, войдет Иван Поликарпович, откашляется и заговорит своим молодым голосом. Он одобрит выбор Александра и в заключение обязательно скажет:
– Все это было, было, а вы, юноша, найдите в этом бывалом нечто такое, чего не могло быть раньше, потому что время другое, следовательно, и люди, а не только одежда. – И обязательно заключит: – Из каждого человека, будь он темным крестьянином или государственным деятелем, должна выпирать эпоха. – И добавит: – Натуру надо любить.
– Я вас буду писать, – сказал Александр, не заметив, что перебил говорливый ручеек Варвары Ферапонтовны, сказал, как о решенном, и пояснил, подумав, что Аннушка не поймет: – Рисовать вас буду. Вы когда бываете свободны?
– Со следующей недели я во вторую смену, – тихо ответила Аннушка и испуганно посмотрела сначала на Александра, потом на Варвару Ферапонтовну.
– Да ты не бойся, голубушка моя, – всплеснула руками Варвара Ферапонтовна. – Он тебя одетой рисовать будет. – И уже к Александру: – Ведь так, Сашенька?
– А как же иначе! – удивился Александр. – Я ее за столом нарисую. Впрочем, нет, еще не знаю. – И опять к Аннушке: – Вы учитесь?
– Да, в шестом классе.
– Вот и здорово! Значит, стол и… книжки, тетрадки, чернильница… Что еще? Стакан с недопитым чаем, кусок хлеба на тарелке…
– Да, действительно, это должно быть хорошо! – воскликнула Варвара Ферапонтовна. – И керосиновая лампа!
– Керосиновая? Зачем же? – Александр пожал плечами. – Нет, электрическая. И абажур такой… такой простенький, розовый… Вы ведь любите розовый цвет? – почти утвердительно спросил он у Аннушки.
– Нет, я больше голубой и зеленый, – ответила она смущенно. – Но можно и розовый. Розовый мне тоже нравится.
– Голубой и зеленый… – задумался Александр. – Что ж, можно – на заднем плане. Хотя… Ну, там посмотрим!