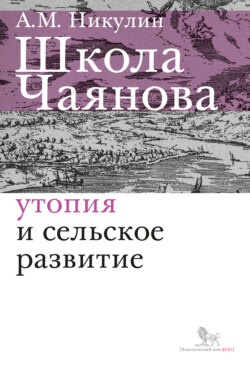Читать книгу Школа Чаянова. Утопия и сельское развитие - А. М. Никулин - Страница 18
Часть 1. Утопия и культура
Глава 2. Сельско-городское развитие через образование и культуру
Чаяновские исследования значения искусства для развития москвы
ОглавлениеЧаянов как коренной москвич, искренне любящий свой город, много и достаточно профессионально занимался его историей. В нашем распоряжении имеется вводная лекция к несохранившемуся чаяновскому курсу по истории Москвы. Это замечательный образец чаяновской визуальной исторической социологии, когда ученый, демонстрируя репродукции старинных московских карт, планов, схем, рисунков и гравюр, мастерски реконструирует историю русской столицы.
В этом тексте Чаянов, не удержавшись от бесстрастного тона академического ученого, в одном из лекционных абзацев патетически заявляет: «Когда начинаешь серьезно изучать Москву и знакомиться с пройденными ее этапами, приходится установить здесь наличие величайшей культуры, углубленных проявлений человеческого духа, поднимавшегося до неизмеримых высот, приходится признать Москву одним из величайших городов по своему глубочайшему содержанию, с которым можно равнять только другие мировые города, как Рим и Париж. Москва не является европейским городом, но в то же время нельзя признать ее азиатской столицей. Она, стоящая на грани двух цивилизаций, претворила в себе достижения этих культур и явила что-то, что совершенно не укладывается в рамки, пригодные для других городов мира»[109].
Такое заявление может быть истолковано в пользу версии влияния идей евразийства на социологию Чаянова, впрочем, сам ученый не соглашался с мнением, что его воззрения относятся к евразийству[110]. Его историко-философская позиция в понимании значения Москвы как важнейшего центра формирования российской культуры не поддается однозначному приписыванию к какой-либо политической и культурной идеологии. Примером этого могут служить его другие искусствоведческие работы, посвященные исследованию собирания произведений искусства в Москве.
Так, в своей статье «Московские собрания картин сто лет назад», посвященной краткому расцвету великолепных коллекций западноевропейской живописи, собранных российской аристократией в конце XVIII – начале XIX века, Чаянов не только с точностью историка описывает и определяет перечни всех основных московских коллекций художественных произведений, упоминая среди них особо значимые шедевры и имена их создателей, но и размышляет над самим духом времени и особенностями формирования личностей собирателей художественных сокровищ.
Что касается духа времени, то Чаянов подчеркивает, что российская аристократия (а именно она в то время только и обладала необходимыми культурными и экономическими ресурсами для серьезного художественного собирательства в России) далеко не сразу открыла для себя величие и очарование классического европейского изобразительного искусства. Не без иронии Чаянов, упоминая записки путешествующих аристократов начала XVIII века – Б. П. Шереметева, П.А. Толстого, А. А. Матвеева, Б.И. Куракина, отмечает, что «…их больше интересует слон, который стреляет из мушкатанта и многие другие делает забавы, стекло зажигательное, трубка зрительная, лошадь, которая имела гриву одиннадцать сажень длины, анатомия, здания, корабли и прочие подобные диковины»[111].
Лишь во второй половине XVIII века, начиная с Н. А. Демидова, среди русских аристократов просыпается вкус и стремление к собирательству именно классической живописи и скульптуры. На путях этого собирательства им чрезвычайно благоприятствовали события Французской революции: «Кровавые волны социальной бури разметали во все стороны художественные сокровища, скопленные во Франции в течение ряда веков, и очень многие из них попали в далекую Москву, частью прямо из Парижа, частью пройдя через длинную цепь посредников, обильно наводнивших нашу столицу»[112].
Впрочем, недавно столь стремительно образовавшиеся блистательные коллекции искусств вновь оказались в эпицентре социальных катаклизмов в результате вторжения наполеоновских армий в Москву. Чаянов констатирует:
Известный сержант Бургон, оставивший свои мемуары о русском походе Наполеона, описывает гибель одного московского дворца, в котором его особенно поразили коллекция картин голландской и итальянской школы.
Современники особенно скорбели о погибших в огне собраниях и библиотеках графа А.И. Пушкина и графа Бутурлина. Многое уцелевшее от огня сделалось добычей неприятеля ‹…› Картинные галереи Останкино и Кусково были похищены французами и частью только отбиты казаками во время переправы великой армии через Березину[113].
Однако многие художественные сокровища все же удалось спрятать и сохранить во время событий 1812 года. И, как отмечает Чаянов, аристократический бум в коллекционировании художественных произведений продолжался вплоть до 1820-х годов. На нескольких последующих страницах своей статьи он дает краткие сочные характеристики московских собирателей картин, перечисляет списки их коллекций, упоминает цены на некоторые из произведений искусства.
Чаянов не уделяет особого внимания причинам затухания и даже упадка московского аристократического коллекционирования живописи в последующие десятилетия XIX века, а лишь элегически признает:
Каким-то чудесным видением кажется теперь нам, обитателям современной Москвы, этот роскошный цветок европейского искусства и культуры, расцветший сто лет назад в дни Александровы и так быстро отцветший и рассыпавшийся в пространство.
Постепенно вымерла екатерининская московская знать, оскудело дворянство и очень скоро пресеклась московская живая традиция художественного собирательства[114].
В заключение своей статьи, опубликованной в лето революционного 1917 года, он поднимает вопрос о чрезвычайно скромном собрании картин западноевропейской живописи в Москве даже в главной коллекции Румянцевского музея (нынешний ГМИИ им. А. С. Пушкина), находящейся на уровне лишь коллекций провинциальных музеев Европы.
Вновь поминая славные времена московских аристократовколлекционеров, Чаянов, обращаясь к современникам, утверждает:
…перед Москвой сегодняшнего дня стоит несомненная задача большого европейски организованного музея старинной живописи.
Наблюдая десятки миллионов, затрачиваемые у нас в Москве государством, городом и самими москвичами на общественное устройство нашей материальной жизни, хочется верить, что найдутся несколько сотен тысяч, чтобы украсить и нашу духовную культуру и дать Москве чудесные видения Сандро Боттичелли, Рубенса, Веласкеса, Лукаса Кранаха и других корифеев мирового искусства[115].
Пятью годами позже Чаянов пишет статью, в которой отправляется на несколько веков раньше в изучение особенностей собирательства в Москве еще допетровского периода.
И вновь, как и в предыдущей статье, он отмечает роковое значение социальных катаклизмов в судьбе московского собирательства: «Бесчисленные пожары и кровавые нашествия не раз безжалостно стирали с лица земли дивные иконы, книги с драгоценными миниатюрами и «немецкие» куншты и парсуны, и они вновь собирались в деревянных стенах старой Москвы»[116].
Чаянов относит к первым своеобразным описям московских собраний описи великокняжеских завещаний московских князей XIV–XV веков, кажущиеся весьма скромными по меркам последующих исторических времен. Например, он приводит опись казны по духовному завещанию знаменитого своей скупостью и рачительностью князя Ивана Калиты, в которой упоминалось свыше 50 предметов – золотых цепей, поясов, шапок, чаш, блюд, ожерелий, колец, коробочек и т. п. По сравнению с этой описью духовные завещания нескольких последующих потомков князя вплоть до Ивана Третьего выглядят значительно скромнее, насчитывая не более двух десятков предметов.
Чаянов приходит к выводу: «Только с возвышением Москвы богатство постепенно начинает расти, и казна из посуды и одежды начинает перерождаться в собрание сокровищ»[117]. Уже вполне самостоятельными и выдающимися коллекционерами произведений искусства тех времен становятся Иван III и Иван IV.
В XVII веке в результате постепенного экономического и культурного сближения с Западом в Московское царство проникают западноевропейские картины и гравюры, в Москве начинают жить и работать иностранные художники, картографы, граверы.
Чаянов уделяет большое внимание описи имущества князей Василия и Алексея Голицыных в их большом московском доме в Белом городе, сделанной в ходе политического расследования «Розыскных дел о Федоре Шакловитом и его сообщниках». Он подчеркивает, что хоромы знаменитого фаворита царевны Софьи Василия Васильевича Голицына украшала выдающаяся коллекция многообразных произведений русского и западноевропейского искусства. Это иллюстрирует, что к началу петровских преобразований не только в царских дворцах, но и в домах московской знати возрастает дух собирательства, который, впрочем, как отмечает Чаянов в завершение своей статьи, и замирает на длительное время в результате очередного (внутреннего) социального кризиса – переноса столицы на берега Невы.
109
Чаянов А. В. Не публиковавшиеся и малоизвестные работы. М.: Дашков и Ко, 2003. С. 272.
110
Чаянов А. В. Письмо С. Н. Прокоповичу 10.09.1923 // Статьи о Москве. Письма (1909-1936). М.: Издательский дом ТОНЧУ, 2008. С. 189–191.
111
Чаянов А. В. Избранное искусствоведческое наследие. М.: Издательский дом ТОНЧУ, 2018. С. 51.
112
Чаянов А. В. Избранное искусствоведческое наследие. М.: Издательский дом ТОНЧУ, 2018. С. 52.
113
Чаянов А. В. Избранное искусствоведческое наследие. М.: Издательский дом ТОНЧУ, 2018. С. 55.
114
Чаянов А. В. Избранное искусствоведческое наследие. С. 70.
115
Чаянов А. В. Избранное искусствоведческое наследие. С. 72.
116
Чаянов А. В. Избранное искусствоведческое наследие. С. 73.
117
Чаянов А. В. Избранное искусствоведческое наследие. С. 75.