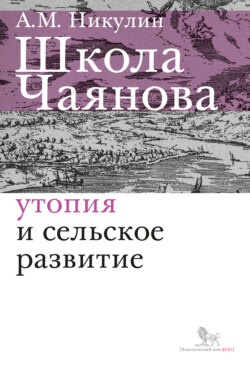Читать книгу Школа Чаянова. Утопия и сельское развитие - А. М. Никулин - Страница 5
Часть 1. Утопия и культура
Глава 1. Чаяновские утопии: оптимизируя релятивизм альтернатив
Оптимизируя «эпоху катастроф»
ОглавлениеНеобходимо отметить чрезвычайную социально-политическую интуицию Чаянова, позволившую ему одним из первых среди современников почувствовать глубинные изменения в скоротечном духе своего времени – 1910-1930-х годах, так точно названном британским историком Э. Хобсбаумом эпохой катастроф, то есть эпохой войн и революций, эпохой кризисов и диктатур[3]. Ведь и очередное обращение Чаянова к утопическому конструированию, как правило, совпадает с новыми катастрофическими шагами в эволюции общественной жизни России и мира первой трети XX века. Так, например, через год после начала Первой мировой войны Чаянов одним из первых социальных мыслителей ставит вопрос о наступлении возможно длительного периода становления и усиления автаркического существования государств, что косвенным образом находит свое выражение в абстракциях его первой утопии «Опыты изучения изолированного государства», начатой в 1915 году и завершенной уже после революции, в 1923 году.
В разгар экономики военного коммунизма, в 1920 году, Чаянов, словно предчувствуя скорый и неминуемый кризис этой милитаристко-пролетарской химеры, создает головокружительно смелую антиутопическую противоположность в повести «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии».
Наконец, накануне «великого перелома», на волне роста индустриальных мечтаний первой пятилетки, в 1928 году Чаянов публикует свой технократический утопический прогноз «Возможное будущее сельского хозяйства».
Эти утопические произведения чрезвычайно различны по жанрам. Утопия 1915-1923 годов написана в жанре маржиналистско-абстрактного трактата по мотивам «Изолированного государства» великого немецкого аграрника-экономиста И. Г. Тюнена[4]. Вторая утопия представляет собой жанр художественно-фантастической повести-сказки. Третья создана в жанре научно-технократического прогноза. Во всех этих жанрах Чаянов чувствует себя как рыба в воде – всем трем произведениям присущ разнообразно пластичный, но неизменно высокопрофессиональный стиль мастера.
Необходимо отметить по крайней мере еще две важные характерные черты чаяновских утопических конструкций, делающие его утопии такими объемными и динамичными, что на их фоне большинство остальных известных нам утопий оказываются слишком плоскостными и статичными.
В каждой из своих утопий Чаянов особо оговаривает динамику трансформации пространства и времени. Что касается пространства, ученый много внимания уделяет упоминанию и описанию региональных, локальных факторов утопических пространств, обладающих собственными структурно образующими границами, порой надежно изолирующими ту или иную страну или регион для наиболее полного воплощения возможностей их внутренних регионально-природно-культурных особенностей развития. Что касается времени, то в каждой из утопий Чаянов конструирует некий временной континуум, на хронологической шкале которого выделяет и анализирует особенности и варианты возможных социальных бифуркаций в поисках оптимумов форм общественной жизни как среди уже известных, так и возможно наступающих кризисов развития природы и общества.
Иногда финал своих особо концептуальных академических статей и книг Чаянов мог завершить неким патетически эмоциональным провидением будущего. Например, мы в этом убеждаемся на последней странице его монографии «Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации», опубликованной в 1927 году:
В критические моменты нашей, а также и Великой французской революции, когда государственный аппарат колебался под ударами врагов, народные вожди не раз выбрасывали лозунг «К массам!» и бросали в борьбу стихию народных масс, своею мощью спасавшую положение ‹…› В тот час, когда окажутся бессильными все методы предпринимательства, когда экономический кризис и удары организованного заграничного капиталистического противника будут сметать наши сложные предприятия, для нас возможен единый верный путь спасения, неизвестный и закрытый капиталистическим организациям, путь этот – переложить тяжесть удара на плечи того Атланта, которым держится вся наша работа, на плечи крестьянского хозяйства, на его рабочую сопротивляемость, на его сознательность. А для того чтобы они не уклонились от тяжести, нужно, чтобы они чувствовали, знали, сжились с тем, что дело сельскохозяйственной кооперации – их крестьянское дело! Чтобы это дело тоже было действительно мощным социальным движением, а не предприятием только! Нужна кооперативная общественность деревни, кооперативное крестьянское общественное мнение. Без них кооперация будет всегда в опасности и всегда в состоянии неустойчивого равновесия[5].
Столь обширный отрывок из заключения знаменитой работы Чаянова приводится здесь для того, чтобы также обнаружить в нем фактически все основные понятия чаяновской социальной теории, применение которой демонстрирует, как среди социальных кризисов, колеблющих равновесие (устойчивое и неустойчивое), определяется треугольник взаимоотношений «государство – предпринимательство – крестьянство (кооперированное)» и происходит поиск между ними оптимумов социально-политических решений, принимаемых вождями (элитами) в согласии с массами[6].
Это нахождение (и даже вычисление) оптимума теоретико-экономического и социально-политического в условиях неустойчивого, порой кризисного равновесия экономического и политического часто есть главная цель и вывод, заключительный аккорд типичного чаяновского аналитического текста.
Исследователи творчества Чаянова любят подчеркивать его вклад в обоснование и развитие теории дифференциальных оптимумов сельскохозяйственных предприятий[7], определенным образом интегрирующих фактически все его аграрно-экономические исследования. Например, И. Виноградова и В. Чаянов так суммируют сельскохозяйственную суть чаяновских оптимумов: «Оптимум имеется там, где при прочих равных условиях себестоимость получаемых продуктов будет наименьшей. Оптимум зависит от природно-климатических, географических условий, биологических процессов. Все элементы себестоимости в земледелии Чаянов разделил на три группы:
1) уменьшающиеся при укрупнении хозяйств (административные расходы, издержки по использованию машин, построек);
2) увеличивающиеся при укрупнении хозяйств (транспортные издержки, потери от ухудшения контроля за качеством труда);
3) не зависящие от размеров хозяйств (стоимость семян, удобрений, погрузочно-разгрузочные работы). Оптимум сводится к нахождению точки, в которой сумма всех издержек на единицу продукции будет минимальной»[8].
Это действительно емкое и добротное определение чаяновских оптимумом, в котором, впрочем, не упомянуто столь важное для Чаянова понятие динамики аграрно-экономической интенсификации, к тому же сформулированное лишь к прикладной точке зрения экономики сельского хозяйства. А ведь, подчеркнем еще раз, Чаянов был не просто аграрником-экономистом, но прежде всего социальным мыслителем, который стремился определить возможные оптимумы для фундаментальных, базисных социальных процессов общественного развития в их интенсифицирующейся динамике противоречий и кризисов.
Здесь, конечно, невозможно было опереться лишь на социально-экономическую статистику, в прошлом и настоящем всегда неполную, а в будущем, естественно, отсутствующую. И тогда чаяновское мышление смело устремлялось через конструирование разнообразных социальных моделей альтернативного существования общества к прогнозированию возможных тенденций и вариантов эволюции человечества, тем самым фактически вступая в мир утопий.
Чаще всего исследователи творчества Чаянова анализируют его знаменитую фантастическую повесть-сказку «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Но и в ряду других, прежде всего научных произведений ученого, на наш взгляд, вполне можно обнаружить признаки утопического мышления, конструирующего утопию. Наше утверждение относится в первую очередь к таким его абстрактно-теоретическим работам, как «К теории некапиталистических систем хозяйства», «Опыты изучения изолированного государства». Кроме того, сам Чаянов наделял статусом утопии свою последнюю футурологичесую повесть «Возможное будущее сельского хозяйства».
Обратимся к последовательному анализу каждой из трех утопий.
3
Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век (1914-1991). М.: Независимая газета, 2004. С. 102–304.
4
Тюнен И.Г. Изолированное государство. М., 1926.
5
Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М.: Наука, 1991. С. 412–413.
6
Критику идеологической линии Чаянова во взаимодействии с советской властью см. в статье: Соболев А. В. Александр Васильевич Чаянов: смена вех // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2015. № 6. С. 3–9.
7
Чаянов А. В. Оптимальные размеры сельскохозяйственных предприятий. М., 1928.
8
Виноградова И.Н. Социальные аспекты учения А.В. Чаянова // Материалы III Чаяновских чтений. М., 2003.