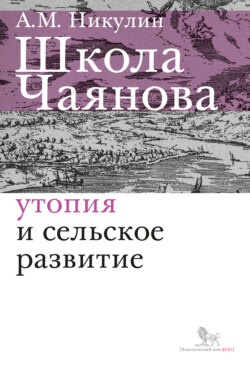Читать книгу Школа Чаянова. Утопия и сельское развитие - А. М. Никулин - Страница 9
Часть 1. Утопия и культура
Глава 1. Чаяновские утопии: оптимизируя релятивизм альтернатив
Утопический релятивизм чаяновских оптимумов
ОглавлениеЧасто противопоставляя в своих утопиях различные социальные, экономические, культурные, политические формы существования человеческих обществ, Чаянов стремился найти в этих противоречивых противопоставлениях оптимумы наиболее приемлемых решений и результатов взаимодействия – компромиссов, способствующих росту гармонизации развития мира.
Противоречия между городом и селом, промышленностью и сельским хозяйством, крестьянским и капиталистическим хозяйством, государством и его гражданами, наконец, между личностью и обществом с большей или меньшей полнотой находят свое отражение в рассмотренных нами утопиях.
Мы знаем, что, как правило, утопии создаются для формирования некоего социально-нравственного идеала, часто в условиях не только социально-экономического, но и культурного кризиса. Большинству наиболее известных и замечательных утопий свойственна попытка обоснования новой нравственности, новой этики, предполагаемого совершенного будущего. Но к этой нравственной аксиоматике всякого настоящего утопизма Чаянов, пожалуй, относится скептически, в своих собственных утопиях демонстративно, подчеркнуто избегая однозначных рассуждений о нравственности.
Пожалуй, один-единственный раз этический вопрос вдруг неожиданно ставится ребром в «Путешествии моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», когда представитель утопической элиты «крестьянской Москвы 1984 года» Алексей Минин заявляет: «По-нашему, если хотите, осознанная этика безнравственна»[56].
Кажется, по чаяновскому утопизму выходит то же самое. Впрочем, это не значит, что утопист Чаянов безнравствен. Все выглядит так, что, по Чаянову, эволюция, совершенствование нравственности заключаются лишь в увеличении многообразия различных сторон бытия, ищущих себе выход в преимущественно мирном сосуществовании компромиссных оптимумов. В этом смысле чаяновская этика чрезвычайно релятивистична. В его утопиях не существует абсолютной нравственности – нравственность в них всегда относительна. В смысле постановки детского вопроса, что такое хорошо и что такое плохо, из чаяновских утопий следует ответ: там, где больше условий для признаков многообразия мира, стремящихся гармонично сосуществовать между собой, там и лучше, там и хорошо; а единообразие – это хуже, это плохо.
Впрочем, здесь мы должны подчеркнуть, что Чаянов отнюдь не нейтрален в своих личностных социально-экономических и историко-культурных предпочтениях. Он аксиоматически убежден, что сельский мир крестьянских хозяйств является базой, фундаментом эволюции всемирного разнообразия человеческого общества. Здесь Чаянов – яркий представитель идеологии аграризма, противопоставляющий свои утопии другим идеологиям и другим утопиям: прогрессизму и урбанизму, капитализму и коммунизму[57].
Чаяновский аграрный утопизм великодушен, в будущем он побеждает, но отнюдь не изничтожает своих основных противников, а лишь приручает, контролирует их. Государство и рынок, индустрия и город, капитализм и социализм имеют право на существование в стране крестьянской утопии, подчиненные власти оптимумов всеобщего кооперативизма, укорененного в мудрости сельской гармонии.
Насколько в реальности последних ста лет оказались осуществимы утопические идеи Чаянова, связанные с поисками оптимизации социально-экономической многоукладности в перспективе гармонизации исторических альтернатив?
Проблема заключается в том, что, несмотря на гигантский прогресс в создании самых разнообразных моделей оптимизации работы любых хозяйственных предприятий (не только аграрных), целых отраслей промышленности, различных рынков, логистических систем, планов государственного развития (с расширенным использованием за последние полвека компьютерных технологий), а также доминирование идеологии плюрализма и толерантности по крайней мере среди развитых стран Запада, чаяновский идеал достижения гармонии оптимумов альтернативных форм и стилей жизни человеческого общества остается по-прежнему малодостижимым.
Конечно, одна из главных политэкономических причин этого заключается в продолжающемся дисгармоничном доминировании-союзе бюрократии государства и стихий капиталистического рынка, когда часто на обочинах альтернатив прогресса ютятся иные дорогие сердцу Чаянова социально-экономические формы: домохозяйства сельские и городские, локальные кооперативные и муниципальные экономики, культурные ассоциации и так далее.
К тому же, безусловно, поиск гармоничных оптимумов сосуществования социальных институтов будет всегда неполным без нахождения оптимумов гармонии душевного равновесия человеческих личностей. Чаянов прекрасно осознавал эту труднейшую культурно-психологическую проблему человеческой индивидуальности, вот почему в его художественных произведениях порой даже на фоне всяческого социокультурного благополучия и уюта все равно так часто мучаются непостижимой тоской дисгармонии фигуры его утопических персонажей.
Чаянов полагал, что в сложной работе нахождения социально-экономических оптимумов для устойчивого развития человечества огромное значение имеет культурное развитие всего общества. Ученый столь много и достаточно профессионально занимался вопросами культуры, искусства, образования, что без специального исследования его интеллектуального культурологического наследия в самом широком смысле этого слова невозможно понять, как он собирался воплощать свои междисциплинарные футурологические замыслы в реальную жизнь. Поэтому от Чаянова – утописта теперь обратимся к Чаянову – культурологу.
56
Чаянов А. В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии // Венецианское зеркало: Повести. М.: Современник, 1989. C. 200.
57
Подробнее об идеологии аграризма см.: Бруиш К. Крестьянская идеология для крестьянской России: аграризм в России начала ХХ века // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. 2012. Вып. 7. С. 142–158.