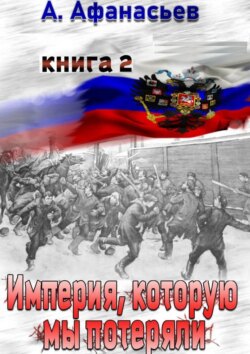Читать книгу Империя, которую мы потеряли. Книга 2 - Александр Афанасьев - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.6. Корни измены Престолу в армии
ОглавлениеПочему то никто серьезно не исследовал процессы, которые происходили в русской армии в период с 1825 года, с года, когда было подавлено восстание декабристов и по 1917 год. Как будто сами по себе идеи декабристского движения, возникли на пустом месте и после провала восстания на Сенатской площади – ушли в небытие.
Большая ошибка так думать.
29 мая 1831 года при подозрительных обстоятельствах умер от холеры фельдмаршал Дибич, посланный усмирять мятежную Польшу после того как польский Сейм принял решение о детронизации Николая I. После Дибича, главой экспедиционного корпуса был назначен фельдмаршал Паскевич и дела с подавлением очередной полькой фронды начали налаживаться. 15 июня того же года умер от той же холеры Вел. Кн. Константин Павлович – это из-за его несостоявшейся интронизации начались события на Дворцовой Площади (солдатам сказали, что они идут защищать права на престол Константина и его супруги Конституции), а 29 ноября от той же холеры скончалась его польская морганатическая супруга, светлейшая княгиня Лович. Надо сказать, что детронизация Николая I – по всей видимости, была частью грандиозного заговора с целью посадить В. К. Константина Павловича как минимум на независимый польский, а как максимум – на Российский трон. Сам В. К. Константин Павлович, кавалер орденов практически всех европейских государств – проживал в Польше очень долгое время, имел польских морганатических жен и любовниц, был представителем и ставленником польских элит, польский Сейм он видел русским Парламентом – фактически, едва не повторилось Смутное время. До своего отъезда в Польшу – он был известен всему Петербургу как организатор и участник группового изнасилования жены придворного ювелира Араужо.
Три смерти от холеры – небольшая цена за избавление от новой Смуты. Поняв, что дворцовым переворотом и воцарением удобного для Европы монарха Россию не развалить, европейские страны стали готовить против нее войну…
После поражения России в Крымской войне (хотя поражением это можно было назвать достаточно условно) – произошла еще одна попытка офицерского восстания, о которой в официальной истории почти ничего не говорится. Потому – я расскажу о ней немного подробнее
В 1855 году при непонятных обстоятельствах внезапно умирает Николай I – ходят слухи, что он покончил с собой, но имеет право на существование и версия, по которой он был убит британскими спецслужбами. Страна находится в состоянии войны практически со всей Европой, британцы вынашивают планы проникновения на Кавказ с целью поднятия там мятежа – но французы против, им это уже невыгодно. Вот в таких условиях – на престол вступает Александр II.
Заговор, судя по всему, вызревает почти по той же схеме, что и декабристский – часть заговорщиков находится в Польше, часть – в Петербурге. Петроградские заговорщики – это преимущественно офицеры Генерального штаба, есть так же заговор и в полках артиллерии. План – поднять восстание в Польше, отвлечь этим внимание правительства, после чего начать мятеж уже и Петербурге.
В Петербурге начинают распространяться прокламации. Ниже я приведу их текст:
№1.
Офицеры.
Настало время каждому честному офицеру спросить у своей совести, чего ему держаться в виду совершающихся событий.
Жизнь России невозможна без коренных реформ. Правительство само это осознало, оно даже приступило к ним и – струсило. Эгоистическое, не любящее России, оно втягивает государство с пути реформ в путь революционный. Оно само нарушает мирный ход реформ беззаконными поступками, беспрерывно являясь вооруженным бунтовщиком против мирной России: то стреляет без нужды по народу, то сечет его и ссылает в каторгу, то наполняет казематы студентами, то хватает мировых посредников. Реформа, сопровождающаяся заточениями, ссылками, каторгой и обагряемая кровью, есть уже настоящая революция…
На каждом человеке, прежде всего, лежит служба истине и Отечеству. Каждый русский знает, что для блага его родины необходимо: освободить крестьян с землей, выдав помещикам вознаграждение, освободить народ от чиновников, от плетей и розг; дать всем сословиям одинаковые права на развитие своего благосостояния; дать обществу свободу самому распоряжаться своими делами, установлять законы и налоги через своих выборных; не хватать никого без суда по разбойничьи; устроить суд гласный; и дать каждому право свободно высказывать свои мысли. Само правительство не может отвергнуть честности этих убеждений…
Офицеры, подумайте о времени, которое мы переживаем, подумайте о бедном, угнетенном народе, о нашей жалкой родине.
В первый день Пасхи воззвание это поразило долгоруко-долгоухое шпионство в самую шишку честолюбия: в дворцовой церкви, перед самым носом государя, оно было роздано в большом количестве.
Петербург, карманная типография».
№2
«На днях типография Великорусса объявила о разбойнических наклонностях Александра II в следующих словах:
Подвиг капитана Варшавской телеграфной станции Александрова.
Узнав, что варшавяне готовятся совершить поминки по убитым в прошлом году на улицах Варшавы, Лидерс испрашивал приказания у царя: как поступать против сборищ? – Добрый царь отвечал: «разогнать холодным оружием, а если нужно, то употребить картечь». Получив эту кровожадную депешу, капитан Александров, желая устранить пролитие невинной крови, пожертвовал собой. Он передал Лидерсу, что приказано действовать увещанием. Благодаря Александрову дело обошлось без кровопролития, но сам он погиб.
Но помни, царь: отзовутся волку овечьи слезы
Петербург, карманная типография.
№3
Предостережение
Правительство утверждает, что революционеры жгут Петербург. Установлен во всей России суд по полевым военным законам против злоумышленников, потому что правительство полагает, будто во всех провинциях революционные комитеты возбуждают к бунту и поджогу. Петербургское общество само дало правительству возможность принять подобные меры: оно дало ему возможность своими сплетнями и, читая повторение своих выдумок в официальных объявлениях, совершенно убедилось, что сплетни эти справедливы.
Мы достоверно знаем, что таких революционеров нет и не было. Несколько пылких людей написали и напечатали публикацию, резкие выражения которой послужили предлогом для нелепых обвинений…
Революционная партия никогда не бывает в силах сама по себе совершить государственный переворот. Примером тому – многочисленные попытки парижских республиканцев и коммунистов, которые всегда так легко подавлялись несколькими батальонами солдат. Перевороты совершаются народом.
Если бы начавшаяся теперь реакция ограничила свое влияние только преследованиями свободомыслящих людей, – из этого не вышло бы ничего важного для праздной толпы так называемого просвещенного общества. Но реакция отразилась и на крестьянском вопросе. Она окончательно отнимает у правительства всякую заботу об удовлетворении требований крепостных крестьян, а это уже плохая шутка для всего образованного общества. Крестьяне уже начинают готовиться к восстанию и поднимутся, если не получат полной воли…
Мы, революционеры, т. е. люди, не производящие переворота, а только любящие народ настолько, чтобы не покинуть его, когда он сам без нашего возбуждения кинется в борьбу, мы призываем публику, чтобы она помогла нам в наших заботах смягчить готовящиеся в самом народе восстания. Нам жаль образованных классов; просим их уменьшить грозящую им опасность. Но для этого нужно, чтобы публика сделалась более хладнокровна и менее легкомысленна, чем какою выказала она себя в сплетнях о пожарах. Перестаньте поощрять правительство в его реакционных мерах.
Подлинный автор этих прокламаций неизвестен до сих пор.
На дворе 1862 год, весна – активно действует первое поколение революционеров и радикальных литераторов – Чернышевский, Герцен, князь Кропоткин (на тот момент молодой офицер). В городе начинаются массовые пожары – явно результат поджогов.
Из воспоминаний П. А. Кропоткина:
Пожар Апраксина двора стал поворотным пунктом не только в политике Александра II, но и в истории России того периода. Не подлежало сомнению, что пожар не был делом случайности… Апраксин двор и дровяные склады занялись почти одновременно; а за пожаром в Петербурге последовало несколько таких же пожаров в некоторых провинциальных городах. Несомненно, кто-то поджигал, но кто именно? На этот вопрос нет ответа до сих пор…
В это время происходит два события. Первое – арестовывают студента П. Баллода, у него находят оборудование для печати прокламаций. Вероятно, третья из прокламаций – написана им. К Баллоду, который осужден к гражданской казни и ссылке в Сибирь – едет следователь по делу о заговоре сенатор Жданов, чтобы получить информацию о заговорщиках в армии. Неизвестно, о чем они говорили – но на обратном пути сенатор Жданов внезапно и скоропостижно скончался, а все его бумаги исчезли.
Баллод дожил до 1918 года.
Исходя из того немногого что удалось спасти из материалов комиссии Жданова – существовала крупная группа заговорщиков, именуемая петербургской офицерской организацией. Поводом к ее созданию стали события Крымской войны, группы заговорщиков были в Академии генерального штаба, в Артиллерийской и Инженерной академиях, в полках Гвардии и полках расквартированных в Польше. Группы были разделены на тройки и десятки, из которых каждый знал только лиц из своей ячейки. Период активных действий – 1857—1863 годы, число членов – от двухсот до полутора тысяч. Дочерняя организация – Комитет русских офицеров в Польше, она подняла восстание, но не получив поддержки из Петербурга оно было подавлено. Восстание намечалось на лето 1862 года, однако в июне 1862 года арестовали активных польских заговорщиков – Арнгольдта, Сливицкого и Ростковского, а в августе арестовали и Домбровского. Это расстроило планы общего выступления.
Гибель сенатора Жданова оборвала и расследование по делу заговорщической организации. Был частично распутан только польский клубок, а так же арестованы и сосланы или выдворены из страны причастные к заговору интеллигенты. Сам заговор не был раскрыт и большинство из его участников – видимо остались в армии, дослужившись к 20 веку до генеральских званий.
Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. Блестящий военный, участник подавления польского восстания 1853 года, герой среднеазиатских экспедиций. Первые нехорошие мысли у него видимо стали появляться еще в Польше. Зимой 1873—74 годов Скобелев был в отпуске во Франции и зачем то вместо отпуска поехал в Испанию, где шла гражданская война. Умер он в 1882 году, по слухам он был отравлен, так как вынашивал замысел захватить власть и заставить Царя подписать Конституцию.
Адъютантом Скобелева был тогда никому не известный Алексеев. В 1905 он уже был генерал-квартирмейстером и отвечал за разведку на фронтах русско-японской войны: война была проиграна, а разведка, как отмечали многие военные атташе – практически бездействовала. В 1916 году – Алексеев был уже начальником штаба Ставки, фактически вторым лицом в армии после Государя – именно он отправил на смерть в болотах у истоков Днепра и Припяти с таким трудом восстановленную русскую Гвардию. А уже бывший адъютант Алексеева, генерал Крымов при крайне подозрительных обстоятельствах той же осенью 1916 года, находясь в Румынии – открыл фронт врагу. По непонятным причинам корпус Крымова бросил фронт – и в ту же ночь немцы начали наступление, что привело к падению всего фронта, до того наступавшего.
Генерал Маннергейм отмечал, что поведение Крымова не имело никакого разумного основания. Хотя… разумное основание есть, если знать, что уже в начале 1917 года Крымов прибыл в Петроград с целью организации убийства Государя Императора, а Алексеев был первым среди тех, кто потребовал от Императора отречения, подло предав своего монарха. По воспоминаниям посланника Франции, самой большой загадкой для него в той революции была скорая и практически полная измена действующему монарху всего служивого сословья страны, не исключая и самых элитных частей…
Такие процессы – за несколько дней не развиваются, все они имеют очень и очень глубокие корни. В данном случае корнем было то, что декабристский заговор так и не удалось выкорчевать до конца и уцелевшие его участники передавали эстафету заговорщической деятельности новым и новым поколениям. Вторым корнем – было наличие в составе Империи Польши, где происходило обучение русских офицеров идеям борьбы и бунта. Третьим корнем – было наличие в армии не декларируемого, но жесткого противостояния между армией (и ее Генеральным штабом) и Гвардией. Генеральный штаб и его академия стали структурой, воспроизводящей новых и новых заговорщиков. Четвертый корень – тот факт, что уже во время Великой войны офицеры Рейхсвера и его Генерального штаба фактически стали соправителями Кайзера. Этот пример был известен в России и наводил на размышления уже русских офицеров. Впрочем, это наверное тема отдельного разговора.
4.7. Армия и ее место в предреволюционном обществе
Произошедшее с Россией в начале двадцатого века – невозможно понять, не зная, что представляла собой ее армия. Тем более, что в условиях низких налогов и явного дефицита «государственного присутствия» – армия была в России едва ли не единственным крупным структурированным и достаточно сильным для такой страны, такого народа и такой обстановки институтом.
Русская армия в конце XIX—начале ХХ века – представляла собой странное зрелище, а большинство распространенных мифов о ней и о ее роли в государстве являются ложными.
Первый и главный миф – то что Российская Империя была милитаризованной державой.
На самом деле это было не так. Доля военных расходов в бюджете Империи быстро и устойчиво снижалась. В 1881 году Россия тратила на свою армию 30% бюджета, в 1902 году – уже 18%. В абсолютных цифрах – снижения не было, так как сам бюджет столь же быстро рос – но дополнительные средства направлялись отнюдь не на потребности армии. В предвоенный 1913 год Россия потратила на армию 21% бюджета, Германия 14%, Франция 18%. Если учесть то, что в этот момент проводилась крайне капиталоемкая программа восстановления флота – армии доставалось немного. В целом на оборону Россия тратила 5,9% ВВП (Германия 2%).
Еще до 1914 года большинство офицеров в армии уже не были дворянами. В 1911 году офицеров среди дворян было 43% в пехоте и 56% в среднем по армии. Причем в отличие от других стран – флот и кавалерия незначительно отличались по своему классовому составу от пехоты. Для сравнения – в Австро-Венгрии дворянами было 14% пехотных офицеров и 58 процентов кавалерийских. Среди рядового состава более 80% призывников были из крестьян, что соответствовало структуре населения.
Второй миф – то, что в армии существовала палочная дисциплина. На самом деле это было не так, офицер не мог ударить солдата без последствий.
Учитывая тот факт, что Россия снабжала свою армию довольно скромно и меньше имеющихся потребностей – армия постоянно использовала солдат для выполнения работ, не связанных со службой. По оценке – до 15% солдат (в городах и больше) постоянно находились на отхожих работах или выполняли в полку работу не связанную с военной службой. Армия находилась на частичном обеспечении.
Жалование офицеров было довольно приличным – ротный командир получал примерно 100 рублей в месяц, батальонный – 150 рублей (для перевода в современные деньги по курсу золота умножить на 1040). Для сравнения – заработок неквалифицированного рабочего не в столице составлял 35—40 рублей в месяц. Но по сравнению с денежным довольствием офицеров европейских государств – русские офицеры были, мягко говоря, не богатыми.
Третий миф – то, что армия была цепной собакой царизма.
На самом деле это было не так, и в этом кроется одна из причин событий 1917 года – почему громадная воюющая армия так легко изменила своему монарху. Вот что заметил Морис Палеолог, посол Франции в России:
Самым большим сюрпризом для меня явилась скорая и практически полная измена армии своему монарху, быстрая и почти тотальная измена царю со стороны военного сословия, от генералитета до солдат, от фронтовых частей до самых привилегированных гвардейцев. Революционное знамя поднял даже гарнизон Царского Села – во главе колонны шли наиболее обласканные короной войска, шли казаки свиты – великолепные всадники. За ними следовали внешне всегда надменные сверхпривилегированные части императорской гвардии. Появился полк Его Величества, своего рода священный легион, куда попадали лучшие, отобранные из представителей гвардейских частей, – они специально предназначались для охраны царя и царицы. Затем прошел железнодорожный полк, которому вверялась охрана царя и царицы в пути. Шествие замыкала императорская дворцовая полиция – отборные телохранители, молчаливые свидетели повседневной интимной и семейной жизни царствующего дома. Вчера они охраняли царя, а сегодня заявляли о преданности новой власти, даже названия которой они не знали.
Одной из родовых черт русской армии была политическая наивность, пронизывающая всю армию, от рядового и до генерал-адъютанта. В России не было проправительственной политической партии, членство в которой можно было бы сделать если и не обязательным, то желательным для офицера. В военных училищах было запрещено читать газеты, причем не левые – а любые газеты. Большинство из офицеров были полуграмотными, так как чтение в армии не поощрялось вообще. При поступлении в Академию Генерального штаба – практически не один офицер не мог написать вступительный экзамен без массы орфографических ошибок. Если такими были офицеры – то что говорить о солдатах? В войсках не проводились политбеседы, не только солдаты – но и большинство офицеров не имели знаний о потенциальных противниках России, о самой России, о целях и задачах будущих войн – стоит ли удивляться тому, что солдаты с 1914 и по 1917 год не знали, за что и почему они воюют.
Офицеры, не говоря уж о солдатах – не имели политических прав – ни избирать, ни быть избранными. Вопрос о избирательном праве военных рассматривал сам Николай II и счел нужным лишить военных этого права, дабы не втягивать армию в политику. Это указывает на наивность уже Николая II – запретив офицерам голосовать, уберечь их от политики таким образом было невозможно. Если армия не пришла в политику – то политики пришли в армию, совершенно к этому не готовую.
Две трети офицеров были холостяками, потому что жениться можно было с 28 лет, а в большинстве полков кандидатуру невесты одобряло офицерское собрание полка. Рутинным явлением было пьянство, промотание вверенного имущества, казнокрадство.
Отношение общества к армии было враждебным, как и армии к обществу. Это не соответствовало ни одной из стран – участниц ПВМ – ни в Великобритании, ни в Германии, ни во Франции, ни в Австро-Венгрии, ни в Италии, ни в США общество не относилось к своей армии с презрением и ненавистью. Русская интеллигенция считала армию почти оккупационной, после 1905 года это чувство только усилилось. Практически отсутствует русская литература того времени, восхваляющая армию, особенно армию мирного времени. Спектр мнений об армии варьировался от «сатрапы» до «забитые, несчастные, некормленые солдатики». Русская литература серебряного века не породила ни своего Уинстона Черчилля, ни Редьярда Киплинга. Вообще, служба в армии считалась чуть ли не постыдной, а любая война – завоевательной и тоже чуть ли не постыдной.
Вообще, это надо отметить – Российская Империя была в те годы единственной империей в мире, где интеллигенты так относились к армии, так поносили армию. Нигде такого не было. Во Франции гордились традициями, оставшимися еще со времен Наполеона, лихорадочно наращивали силы, чтобы отомстить и забрать обратно Эльзас и Лотарингию, немцы гордились своей армией, считали ее оплотом страны, быть офицером считалось очень престижно. Британцы – говорили про «тонкую красную линию», отделяющую цивилизацию от варварства, гордились своим дозором у Шангани. И только русская интеллигенция – относилась к армии равнодушно-враждебно. Только правые – осмеливались заикнуться о том, что у России есть национальные интересы, и их возможно, придется отстаивать силой оружия – на что получали в ответ ненависть и презрение абсолютного большинства мыслящих людей того времени. Думаю, не будет преувеличением сказать, что для российского гражданского общества того времени – главной победой, которую она требовала и которую жаждало – была победа над самодержавием. И оно с радостью обменяло бы любую победу над внешним врагом – на победу над собственной властью.
Из песни слов не выкинешь, как говорится.
Во многом ненависть интеллигенции к армии была вызвана тем, что армию постоянно использовали для наведения порядка внутри страны.
В 1877 году были приняты правила вызова войск гражданскими властями, которых до этого не существовало. Было определено, кто и при каких обстоятельствах может вызвать войска, при этом было определено, что гражданские чиновники командовать войсками не имеют права. Основным поводом для вызова войск были, конечно, массовые беспорядки, при этом основным методом их разгона были залпы в толпу. В то время – британские власти уже разрабатывали деревянные пули, в России же не было специализированных войск для внутреннего применения, и потому спецсредства тоже не разрабатывались.
С 1896 по 1904 годы армейскими частями при подавлении беспорядков было убито 196 человек, собственные потери – 22 человека убитыми. Самые крупные жертвы были при усмирении рабочих беспорядков в Златоусте – тогда погибло 45 человек.
С 1905 года ситуация в стране резко обострилась, в некоторых местностях перейдя в войну против властей. Масштаб происходившего в 1905 году в стране многими недооценивается – только за этот год войска вызывались 3893 раза, оружие применялось 311 раз. Число убитых никто не считал, очевидно, что это были многие тысячи человек. При подавлении беспорядков на Красной пресне в Москве была применена артиллерия, и отдан приказ пленных не иметь. По свидетельствам очевидцев, несколько сот человек после штурма были расстреляны на месте, причем вина большинства из них не проверялась – просто для снижения численности рабочих. В Чите – восстание подняли почти офицеры гарнизона, в Петербурге – образовался антиправительственный петербургский Офицерский союз численностью свыше ста человек. Поражение в войне с Японией было обусловлено, в том числе и идущей внутри страны революцией – по некоторым данным внутри страны были задействованы вдвое больше солдат, чем против Японии.
Боевые действия той или иной интенсивности продолжались почти два года, стало ясно, что революция будет подавлена только в 1907 году. В 1908 году на совещании по поводу возможной войны с Турцией военный министр А. Ф. Редигер заявил, что армия обессилена тремя годами внутренней войны, почти не имеет припасов и резервов, не обучена. Практически весь наличный состав армии участвует в наведении и поддержании порядка.
При этом – все понимали ненормальность ситуации, но в ответ на просьбу Редигера усилить полицию и отойти от практики привлечения армии (а солдаты стояли в карауле даже у казенных винных лавок), ему заявили, что на это нужно столько времени и средств, что об этом и думать не стоит. Полицейский – обошелся бы казне намного дороже, чем солдат, которому платили всего 6—12 рублей в год.
Военные в свою очередь относились к гражданским с презрением, называя «штафирками». В отношениях военных и гражданских нередко было насилие – начиная от драки на танцах и заканчивая убийством за неосторожно сказанное слово или отказ встать, когда звучит гимн.
Значение военной элиты падало и при замещении гражданских должностей. К примеру, в 1863 году в Госсовете было 20 гражданских и 35 военных, в 1985 году уже 47 гражданских и 19 генералов. Тем не менее, значение армии, а особенно гвардии как кадрового резерва оставалось высоким, но сказать хорошо это или плохо – однозначно нельзя. Армия теряла переходящих на гражданку офицеров, наверное, не самых худших.
Подводя итог:
– армия была до 1914 года практически бескрайним людским резервом, откуда правительство могло черпать предельно дешевую силу, преимущественно рабочую. Только это и позволяло хоть как то поддерживать порядок при минимальном уровне налогообложения. Разбалованное такой возможностью, правительство не сумело вовремя осознать необходимость резкого усиления полицейской службы в стране. Можно понять – это потребовало бы отнять средства от программ развития. Но тогда не было бы 1917 года, который произошел, когда вся армия находилась на фронте, и большей частью кадровый состав погиб.
– грубой ошибкой правительства и лично Николая II была попытка огородить армию от политики. Проистекала она из столь же ложного утверждения, что император должен представлять всех россиян и потому он должен быть выше партийной и политической борьбы. Быть выше не получилось, и если кто-то не хотел заниматься политикой – политика занялась им. В 1917 году армия оказалась перед судьбоносным выбором, на который она могла повлиять силой оружия – будучи при этом совершенно наивной и неопытной политически. И поверила разного рода проходимцам, которые просто кричали громче и выглядели увереннее других. Генералы не смогли повести за собой, потому что не знали как вести.
– Отношения армии и гражданского общества были враждебными. Гражданское общество в большинстве своем переняло идеи ненасилия Толстого и воспринимала армию как оккупационную силу. В феврале 1917 года произошло резкое изменение мнения об армии – теперь она превозносилась, хотя осталась той же и обеспечить порядок уже не могла.
Русская армия в итоге не смогла сыграть роль, которую она играла в десятках других аналогичных ситуаций по всему миру – от Пакистана до Чили. Самый ближайший исторический пример – Германия, где только вмешательство военных не дало свершиться аналогичной нашей коммунистической революции. У нас армия эту кровавую, но нужную роль сыграть не смогла. Произошла трагедия.
4.8. Британская и континентальная идентификация. Идеалы русской интеллигенции
Если бы провести анонимное анкетирование русской интеллигенции, что в конце 19 века, что в конце 20 века, что сейчас, а потом обработать результаты, уверен – больше всего на их идеальную страну походила бы Великобритания. И совсем не случайность то, что из века в век именно Лондон становится прибежищем лишних людей России. Лондонград. Почему то не Париж, не Вена. Именно Лондон. Город Герцена и Ленина.
Еще одно – когда мы говорим, что вот, Запад враждебен к нам – мы ошибаемся. Нет никакого Запада. Есть Европа. Континентальная Европа. И мы ее часть. Начиная по крайней мере с Петра I Россия – часть западноевропейского пространства. С особенностями конечно – а где их нет, особенностей. И есть англо-саксонский мир. Совершенно чужой, совершенно другой. Там все другое – начиная от истории и заканчивая краном над раковиной.
О чем это я? А вот о чем – история Франции, типичной и наиболее близкой нам страны. Революция. Вся страна залита кровью. Восстания роялистов. Директория. Наполеон – диктатура, первая общеевропейская война, залившая кровью теперь уже весь континент. Реставрация. Кровь. Снова скинули короля – кровь, императоры сменяют президентов. Парижская коммуна. Кровь. Первая мировая. Кровь. Вторая мировая. Кровь. Война во Вьетнаме, жуткая война в Алжире, попытки военного мятежа. Кровь, кровь, кровь…
Германия. Бисмарковское «железом и кровью». Первая мировая. Кровь. Потом – как будто первой было мало – ни с чем доселе не сравнимый ужас фашизма, истребление целых народов, расовая теория.
Испания. За XIX век – шесть (!!!) революций. В ХХ веке – гражданская война, по кровопролитности мало на что похожая. Испанский фашизм. В первый год после официального окончания Гражданской войны было убито более ста пятидесяти тысяч человек – франкисты продолжали беспощадную войну против собственного народа. Автор волей случая хорошо знаком с этой войной и ее последствиями – в Испании происходили такие ужасы, перед которыми меркнет даже наследие нашей гражданской войны. Один аристократ, уходя на войну… расстрелял всех крестьян в своем поместье, где они арендовали землю. Повторные похороны Примо да Риверы, убитого в 1930 году – караван правых идет через всю страну. По пути убивают всех встречных. Стреляют по крестьянам, работающим в полях. В каждом городе митинг, на который сгоняют горожан, после митинга правые открывают огонь по людям. Что-то вроде аутодафе – месть всему народу. Чистки в городах, на селе – расстрелы с официальной формулировкой – для снижения численности крестьян, рабочих, шахтеров. Если бы Франко примерно в 41—42 годах не понял, что у Гитлера вряд ли что-то получится, и резко не остановил все это – правые перебили бы полстраны. И они готовы были это сделать – в тех провинциях, где поддерживали республику, правые готовы были истребить все население. После всего наследия 19 века и республики – они реально были готовы истребить весь народ.
На этом зловещем фоне то, что произошло с нами в 1917 году и позже – не кажется чем-то из ряда вон выходящим – обычная часть западноевропейской истории, мрачная и кровавая. Мы – Западная Европа – вот с нами это и произошло. Увы.
Но это не снимает вопроса, как мы пошли по этому пути и почему мы по нему пошли.
Поставлю вопрос иначе – а был ли у нас другой путь?
И отвечу на него – да, был.
Как и все европейские страны своего времени, Россия была поставлена перед необходимостью выбора проекта модернизации примерно в 18 веке. Проект модернизации начинается прежде всего с философии, с идеологии (помните сталинское «без теории нам смерть»). Не имея представления о том, кто мы, что мы и куда мы идем – о модернизации говорить нет смысла. Россия такую философию породить не могла (и в том нет ничего стыдного), породить смогли только две ведущие страны своего времени – Франция и Великобритания. В силу многих причин – наша интеллигенция выбрала французский проект. За этот выбор мы расплачиваемся и поныне.
В чем была разница между французским и британским проектом?
Ниал Фергюсон. «Цивилизация»:
…Сначала Французская революция была похожа на Английскую: не нашлось только аналога пуританам. Созыв Генеральных штатов позволил недовольным аристократам во главе с графом де Мирабо и маркизом де Лафайетом выразить свое недовольство. Как и в Англии, нижняя палата делала то, что считала нужным. 17 июня 1789 года депутаты третьего сословия объявили себя Национальным собранием. Три дня спустя, собравшись в Зале для игры в мяч, они поклялись не расходиться, пока у Франции не будет конституции. До тех пор это была французская версия английского Долгого парламента. Но когда дело дошло до формулирования новых принципов политической жизни, французы заговорили почти как американцы. На первый взгляд, Декларация прав человека и гражданина 27 августа 1789 года не вызвала бы удивления в Филадельфии:
2. Естественные и неотъемлемые права человека… свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению…
10. Никого нельзя притеснять за его взгляды, включая его религиозные представления…
17. Так как собственность – неприкосновенное и священное право, никто не должен быть лишен ее.
Почему же Эдмунд Берк, начиная со своей пламенной речи 1 февраля 1790 года, яростно выступал против революции?
Французский бунт против мягкой и законной монархии принял характер более издевательский, яростный и оскорбительный, чем если бы народ выступал против узурпатора или самого кровавого тирана. Народ сопротивлялся уступкам. Его удары были направлены против протянутой руки, которая предлагала милость, пощаду и избавление… Успех предопределил наказание. Ниспровергнутые законы, разогнанные суды, бессильная промышленность, издыхающая торговля, неоплаченные долги, народ, доведенный до нищеты, разграбленная церковь, армия и гражданское общество в состоянии анархии, анархия, ставшая государственным устройством, каждое человеческое и божье создание, принесенное в жертву идолу народного доверия, и как следствие – национальное банкротство. Наконец, в довершение всего появляются бумажные деньги, принятые новой, ненадежной, грозящей падением властью; их обращение призвано поддержать великую империю.
Если бы Берк написал это в 1793 году, это было бы банальностью. Но предвидеть развитие событий лишь год спустя после начала революции?
«Общественный договор» (1762) Руссо – одна из самых опасных книг, порожденных западной цивилизацией. Человек, по Руссо, является «благородным дикарем». Единственная законная власть, которой он подчинится, – «общая воля» народа. Согласно Руссо, она должна стать высшим авторитетом. Судьи и законодатели должны склониться перед ней. Не может быть никаких частных ассоциаций. Не может быть христианства, которое, в конечном счете, подразумевает разделение властей (церковная отделена от светской). Свобода – это, без сомнения, благо. Но добродетель для Руссо важнее. Общая воля должна стать добродетелью в действии. Вот что ужаснуло Берка в Декларации прав человека и гражданина 1789 года:
6. Закон есть выражение общей воли…
10. Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, установленный законом…
17. Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом явной общественной необходимости (курсив мой. – Н. Ф.).
Эти оговорки вызывали у Берка подозрение. Руссоистский примат «общественного порядка» и «общественной необходимости» казался ему зловещим. По мнению Берка, «общая воля» – менее надежный способ выбора правителя, чем наследование, поскольку во втором случае правители с большей вероятностью будут уважать «благородную свободу», которую Берк предпочитал абстрактной свободе. Третье сословие, согласно Берку, неизбежно будет развращено властью (и «денежными интересами»), в отличие от аристократии, которая обладает независимостью, обеспеченной ее богатством. Берк также понял значение конфискации церковных земель в ноябре 1789 года – одного из первых действительно революционных шагов – и опасность выпуска бумажных ассигнатов, обеспеченных лишь этими конфискованными землями. Он утверждал, что реальный «общественный договор» – это не руссоистский договор между «благородным дикарем» и «всеобщей волей», но «товарищество» нынешнего и будущих поколений. Удивительно прозорливо Берк выступал против утопизма «профессоров метафизиков»: «В парках их академий в конце каждой аллеи вы не увидите ничего, кроме виселицы» (самое великое пророчество эпохи). Он предупреждал, что нападки на традиционные институты выльются в «отвратительную и мрачную олигархию» и, в конечном счете, в военную диктатуру. И оказался прав.
Конституция, принятая в сентябре 1791 года, гарантировала неприкосновенность собственности, «неприкосновенность и священность» особы «короля французов», свободу ассоциаций и вероисповедания. В течение двух лет все эти принципы были попраны, начиная с имущественных прав церкви. Свободу ассоциаций нарушил роспуск церковных орденов, гильдий и профессиональных объединений (хотя не политических фракций – те процветали). В августе 1792 года был нарушен привилегированный статус короля, схваченного после штурма Тюильри. Безусловно, Людовик XVI навлек на себя беду неудачной попыткой бежать из Парижа (королевская семья была замаскирована под свиту российской баронессы) к северо-восточной границе, в крепость Монмеди, оплот роялистов. После формирования нового, демократического Конвента в сентябре 1792 года цареубийство стало еще вероятнее. Но казнь Людовика XVI 21 января 1793 года имела совсем иные последствия, чем казнь Карла I. В Англии казнь короля явилась финалом гражданской войны, для Франции же она стала лишь увертюрой. Власть перешла через якобинское «Общество друзей конституции» к Коммуне, а после к Комитету общественного спасения и Комитету общественной безопасности Конвента. Не последний раз в западной истории революционеры вооружились новой религией, чтобы ожесточить себя. 10 ноября 1793 года был учрежден культ Разума – первая политическая религия нашего времени, с множеством образов, обрядов и мучеников.
Французская революция была насильственной с самого начала. Штурм ненавистной Бастилии 14 июля 1789 года ознаменовался обезглавливанием коменданта тюрьмы маркиза де Лонэ и парижского городского головы Жака де Флесселя. Неделю спустя погибли генеральный контролер финансов Жозеф Франсуа Фулон и его зять Бертье де Савиньи. В октябре следующего года, когда толпа напала на королевскую семью в Версале, погибло около 100 человек. 1791 год отмечен «днем кинжалов» и резней на Марсовом поле. В сентябре 1792 года около 1400 заключенных роялистов казнили после контрреволюционных выступлений в Бретани, Вандее и Дофине. И все же было необходимо нечто большее, чтобы произвести террор – первую в наше время демонстрацию той мрачной истины, что революции пожирают собственных детей.
Поколение историков, вдохновлявшихся идеями Карла Маркса искало ответ в классовой борьбе. Причины революции искали в неурожаях, растущей цене хлеба и обидах санкюлотов – слоя, при старом режиме наиболее близкого к пролетариату. Но марксистские интерпретации оказались несостоятельными из за многочисленных свидетельств того, что буржуазия не вела классовой войны с аристократией. Скорее это нотабли – отчасти буржуа, отчасти аристократы – совершили революцию. Гораздо более тонкая интерпретация была предложена интеллектуалом аристократом Алексисом де Токвилем, две главные работы которого, «Демократия в Америке» (1835) и «Старый режим и революция» (1856), дают прекрасный ответ на вопрос, почему Франция не стала Америкой. Де Токвиль полагает, что существует 5 фундаментальных отличий между этими обществами и, следовательно, между революциями. Во первых, Франция была централизованным государством, тогда как Америка была по своей природе федерацией, с деятельными ассамблеями и гражданским обществом. Во вторых, французы предпочитали ставить «общую волю» выше буквы закона. Этой тенденции сопротивлялся могущественный цех юристов Америки. В-третьих, французские революционеры нападали на религию и церковь, а американское сектантство обеспечило им защиту от светских властей. (Де Токвиль был скептиком, но он лучше многих понимал социальное значение религии.) В четвертых, французы отдали слишком большую власть безответственным интеллектуалам, тогда как в Америке безраздельно властвовали люди практического склада. Наконец, и это наиболее важно для де Токвиля, французы ставили равенство выше свободы. В конечном счете, они предпочли Руссо Локку.
В главе XIII «Демократии в Америке» де Токвиль точно подметил, что
с первого дня своего рождения житель США уясняет, что в борьбе со злом и в преодолении жизненных трудностей нужно полагаться на себя; к властям он относится недоверчиво и с беспокойством, прибегая к их помощи только в том случае, когда совсем нельзя без них обойтись… В Америке свобода создавать политические организации неограниченна… политические объединения, способные пресекать деспотизм партий или произвол правителя, особенно необходимы в странах с демократическим режимом.
Вот эта вот зловещая разница – объясняет слишком многое и в русской революции, и в том скорбном и грешном пути, который мы прошли в девятнадцатом и двадцатом веке – потому что Французская революция была путеводным маяком для многих поколений русской (и не только, немецкой думаю тоже) интеллигенции, и в конце концов, путь этот привел кого в ГУЛАГ, кого в Освенцим. И то, что революция 1917 года привела у нас к году тридцать седьмому – это вряд ли можно назвать исторической случайностью или результатом только злой воли одного человека – Сталина. Сталин, в конце концов, не свалился с Луны – он вырос в том интеллектуальном «бульоне», который варился многими поколениями русской интеллигенции, и свое мировоззрение он мог взять только там – а больше негде было. И именно там, кстати – в отличие от многих других из ЦК большевиков Сталин очень мало бывал за границей, практически не бывал. И все свои идеи, приведшие к строительству тоталитарного государства – он позаимствовал у русских интеллигентов, правда, понял он их по-своему.
Итак, принципиальная разница – если на континенте (а французская революция оказала влияние на весь европейский континент, не на одну лишь Россию) права человека существуют, но могут быть стеснены и даже отменены правами общества – то в англо-саксонской трактовке права человека абсолютны, и не могут быть отменены, сокращены или узурпированы даже в интересах общества. Важнейшая особенность демократии в англо-саксонском мире – права имеют абсолютную гарантию и не могут быть отменены даже общественным большинством.
10. Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, установленный законом…
17. Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом явной общественной необходимости
Вот в эту вот лазейку – общественный порядок и общественная необходимость – и пролезали весь двадцатый век все тираны и диктаторы – Ленин, Сталин, Гитлер, Муссолини и все прочие. Кто определяет, что есть общественный порядок и что есть общественная необходимость? В любом случае от народа кто-то должен выступать. Это либо Конвент, либо Директория – и, в конце концов – мы приходим к узурпации власти и появлению нового Императора. Отца нации, уважаемого высшего руководителя, пожизненного президента, фюрера, генерального секретаря – в современных трактовках. Проблема не в том, как он избирается и сколько времени проводит на своем посту. И проблема не в том, правит ли он один, или как в случае с СССР велика роль коллективного органа – Политбюро. Важно то, что их деятельность не скована законом, они могут сделать что угодно и с кем угодно, оправдывая свои действия общественной необходимостью. Нет таких неотменяемых гарантий, какие ни они, ни общество – не могло бы преступить. В итоге – как показывает опыт французской, а потом и русской и многих других революций – социальное противостояние, дошедшее до определенной точки, вызывает крайнее общественное озлобление, ожесточение, поиск виновных и последовательное лишение их прав, включая и важнейшие – право на жизнь. Постепенно получается так, что не находится больше прав, которые в принципе именем общества нельзя отнять. Казнь Людовика XVI, казнь Николая II, расстрелы в подвалах чрезвычаек и ужас Освенцима имеют общую природу – в допускаемой Руссо и континентальными философами возможности лишения прав во имя общественной необходимости. В Великобритании – есть права, которых никак и никого нельзя лишить. Кроме как по закону, который так же – не изменяем.
У России был выбор. У русских мыслителей, русской интеллигенции был выбор. Она его сделала. Мы выбрали Руссо, а не Локка. Целый век с лишним шли по этому пути. Концом пути был ГУЛАГ.
И знаете, что самое в этом отвратительное. Выбрав общественную волю в пику неотчуждаемым правам – сами по себе, поколения русских интеллигентов почему то сбегали в Лондон, а потом и в Нью-Йорк, к тому что они отвергли. И мечтали они – почему то о свободе именно в англо-американской трактовке. То есть выбор они свой сделали – но для нас. Не для себя. И потому – их можно и нужно ненавидеть.
4.9 Первая и Вторая Государственная Дума. Триумф и трагедия русской публичной политики
Первая и Вторая Думы – созванные, а затем распущенные менее чем за год – это триумф и трагедия русской публичной политики. Триумф в том, что в России вообще стала возможной публичная политика, и это, несомненно, завоевание общества. Трагедия в том, что то, что называлось «публичной политикой» – ею по факту не было, а было продолжением неполитической борьбы. И эта борьба – дискредитировала саму идею публичной политики в России.
Из Википедии
Созвана согласно новому избирательному закону от 11 декабря 1905 года, по которому 49% всех выборщиков принадлежало крестьянам. Выборы в Первую Государственную думу проходили с 26 марта по 20 апреля 1906 г.
Выборы депутатов Думы происходили не напрямую, а через избрание выборщиков отдельно по четырём куриям – землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей. Для первых двух выборы были двухстепенные, для третьей – трёхстепенные, для четвёртой – четырёхстепенные. РСДРП, национальные социал-демократические партии, Партия социалистов-революционеров и Всероссийский крестьянский союз объявили выборам в Думу первого созыва бойкот.
Из 448 депутатов Госдумы I созыва кадетов было 153, автономистов (члены Польского коло, украинских, эстонских, латышских, литовских и др. этнических групп) – 63, октябристов – 13, трудовиков – 97, 105 беспартийных и 7 прочих.
Первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля (10 мая) 1906 год в Таврическом дворце Санкт-Петербурга (в присутствии Николая II в Зимнем). Председателем был избран профессор Московского университета кадет С. А. Муромцев. Товарищами председателя – князь П. Д. Долгоруков и Н. А. Гредескул (оба кадеты). Секретарём – князь Д. И. Шаховской (кадет).
Первая дума проработала 72 дня. Обсуждались 2 проекта по аграрному вопросу: от кадетов (42 подписи) и от депутатов трудовой группы Думы (104 подписи). Предлагали создание государственного земельного фонда для наделения землёй крестьянства. Кадеты хотели включить в фонд казённые, удельные, монастырские, часть помещичьих земель. Выступали за сохранение образцовых помещичьих хозяйств и отчуждение за рыночную цену той земли, которая сдаётся ими в аренду. Трудовики требовали для обеспечения крестьян отвести им участки по трудовой норме за счёт казённых, удельных, монастырских и частно-владельческих земель, превышающих трудовую норму, введение уравнительно-трудового землепользования, объявления политической амнистии, ликвидации Государственного совета, расширения законодательных прав Думы.
13 мая появилась правительственная декларация, которая объявляла недопустимым принудительное отчуждение земли. Отказ даровать политическую амнистию и расширить прерогативы Думы и ввести принцип ответственности перед ней министров. Дума ответила решением о недоверии правительству и замене его другим. 6 июня появился ещё более радикальный эссеровский «проект 33-х». Он предусматривал немедленное и полное уничтожение частной собственности на землю и объявление её со всеми недрами и водами общей собственностью всего населения России.
8 июля 1906 царское правительство под предлогом, что Дума не только не успокаивает народ, но ещё более разжигает смуту, распустило её.
Думцы увидели манифест о роспуске утром 9-го числа на дверях Таврического. После этого часть депутатов собралась в Выборге, где 9—10 июля 200 депутатами было подписано Выборгское воззвание.