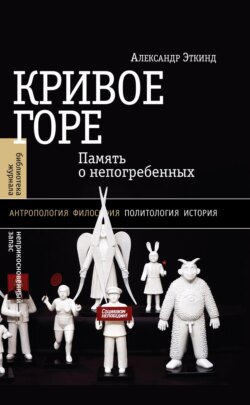Читать книгу Кривое горе. Память о непогребенных - Александр Эткинд - Страница 11
2. ГОРЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пытка переделки
ОглавлениеАнализируя первые рассказы выживших в нацистских и советских лагерях, Ханна Арендт обнаружила у повествователей общность тона, которую она определила как «любопытное ощущение нереальности». Арендт интересовала именно непостижимость лагерного опыта, который заключенные описывали как кошмар. С точки зрения здравого смысла, «и сам лагерь… и его политическая роль совершенно неразумны». Ничто не противоречит здравому смыслу сильнее, писала Арендт, чем «полная бессмысленность лагерей», где невинные страдают сильнее преступников, труд не приносит плодов, а преступление – выгоды. Это царство чистого насилия нуждается в объяснении, но дать его «чрезвычайно трудно». Пытаясь разгадать загадку лагерей, Арендт представляет их как «лаборатории, где ставились эксперименты тотального доминирования». Этой цели можно достичь, сделав лагерь «рукотворным адом», заключала Арендт59.
Не логика производства, а логика пытки определяла жизнь и работу ГУЛАГа. Следственные пытки стали одной из самых памятных черт сталинского террора, но их применяли в тюрьмах, а не в лагерях. Миллионы заключенных ГУЛАГа переживали другой вид пытки. В лагерях одновременное воздействие голода, тяжелого труда, холода, болезней, отрыва от семьи, изоляции от мира и насилия со стороны других заключенных сливалось в невыносимую боль. Эту боль, которую режим намеренно причинял своим жертвам, тоже следует считать формой пытки. Как указывает Элейн Скэрри в классической работе о боли, «пытка включает в себя действия, которые дают боли возможность разрушить человеческий мир». У боли, считает Скэрри, есть особенная способность разрушать язык и мир, низводя речь до звуков, предшествовавших языку. Если боль просто разрушает мир жертвы, то в пытке есть еще один элемент: она дарит палачу чувство собственной власти. Боль, испытываемая при пытке, разрушает границу между внутренним и внешним, сливает частное с публичным и замещает свободу жертвы свободой палача: «Я палача растет по мере того, как он усиливает боль жертвы»60.
Советские лагеря не были лагерями смерти; они были лагерями пыток. В них умерли миллионы, но происходило это в результате естественной убыли, умноженной пренебрежением. Говоря терминами Арендт и Скэрри, ГУЛАГ работал не для того, чтобы уничтожать заключенных, а для того, чтобы разрушать их язык и их мир. Скэрри показывает, что потребность в информации часто являлась ложным мотивом следственных пыток, у которых на самом деле были другие цели. Схожим образом, экономические нужды Советского государства были ложным оправданием для лагерных пыток, у которых тоже были иные цели. Производительность лагерного труда составляла около 50% от среднего уровня в тех же отраслях промышленности; хуже того, эта цифра не учитывает те лагеря и тюрьмы, где тысячи заключенных вообще не работали. Многие проекты ГУЛАГа невозможно обосновать экономической рациональностью. Некоторые из них так и не были закончены, а если и были (как, например, Беломорканал), оказались бесполезны. Постоянной проблемой администрации ГУЛАГа была не нехватка, а избыток рабочей силы. Аресты шли не для того, чтобы набрать рабочих для гулаговских проектов; наоборот, проекты придумывали, чтобы чем-то занять заключенных61. Режим отчасти признавал неутилитарную природу лагерей, говоря об их идеологической, образовательной и психологической функциях – одним словом, об их центральной роли в переделке советского человека62. Быстрая деградация Мандельштама в пересыльном лагере демонстрирует особую эффективность этого низкотехнологичного метода. Лагеря пыток переделывали природу человека в масштабах всей страны. Повсеместное применение пытки в советских тюрьмах и лагерях превращало тех, кто был щедро наделен языком, творческой способностью и тем, что Арендт называла «миром», в доходяг, безразличных ко всему, кроме пайки хлеба и иерархии в лагерном бараке.
Пытаясь найти способ передать ужас нацистских концлагерей, итальянский философ Джорджо Агамбен разработал понятие homo sacer, которое обозначает человекаоказавшегося за гранью «голой жизни» – «жизни, подлежащей убийству, но не подлежащей жертвоприношению»63. Действительно, в жертву можно принести только ту жизнь, которая имеет ценность. Напротив, голая жизнь доходяги заполняет ничейное пространство и время между социальной и биологической смертью. Не определяемая законом, обычаем или верой, голая жизнь входит в прямое отношение к суверену: тот, кто может объявлять чрезвычайное положение, может также определять, кого из подданных можно произвольно уничтожить. Агамбен доказывает, что концлагеря были постоянными зонами исключения из области права и потому лагерную жизнь нельзя описать в терминах, которые имели бы смысл вне таких зон. Архивы могут сохранить следы любой жизни, кроме голой жизни. Такая жизнь, в которой едва теплилось сознание из-за унижения, голода и болезней, оказывается забыта.
Однако в контексте сталинского режима анализ, данный Агамбеном, выглядит неполным. Идея жертвоприношения покоится на религиозных представлениях древних греков и римлян. Для современного человека это очень двусмысленная идея64. На светском языке «жертвоприношение» – например, гибель солдат на войне или пожарных при исполнении долга – можно определить как соединение добровольного участия с признанием в публичной сфере. Другими словами, жертвоприношение добровольно, публично и наделено смыслом. Напротив, массовое убийство в газовой камере, смерть от организованного государством голода или гибель в советском лагере не подходят под это определение, так как не являются ни добровольными, ни публичными.
Основанные на понятии жертвоприношения, агамбеновское определение «голой жизни» и его архаическое понятие homo sacer нужно серьезно скорректировать, прежде чем применять к ГУЛАГу. Переосмысляя теорию Агамбена, Эрик Сантнер предлагает концепцию «тварной жизни» (creaturely life), которая отражает «онтологическую уязвимость» человека. Согласно Сантнеру, защищая своих членов от угроз, социальные институты часто делают их еще более уязвимыми и рассматривают вверенную им в защиту «тварную жизнь» как не вполне «голую», но и не вполне суверенную65. Но Сантнер полагает, что тварная жизнь имеет свои, хотя и ограниченные права, а институты безопасности как-то подчинены закону, хоть и постоянно нарушают его. Развивая идеи Сантнера, Агамбена и Скэрри, я предлагаю другую формулу – «мучимая жизнь» (tortured life). Это жизнь, лишенная смысла, речи и памяти под действием пытки. Как и тварная, такая жизнь создается угрозами, несчастьем и болью, но все это не имеет отношения к безопасности государства и законности его институтов. Как и голая жизнь, мучимая жизнь прямо соотносится с сувереном, потому что пытку ведут от его лица. Высокие цели переделки человека непременно упираются в низкие средства, которыми оказываются разнообразные способы пыток. Мучимая жизнь – временное состояние, но умелые пытки могут растянуть его. Под пыткой можно выжить, но посттравматические последствия неизбежны.
Население СССР было не просто объектом идеологических манипуляций и насильственного принуждения со стороны институтов власти; оно же было и их субъектом. Институты насилия создавали и ими управляли люди той же природы – классовой, этнической и человеческой, – как и у тех, кого они убивали, пытали, переделывали. Это подлинный парадокс советской власти, который всегда ускользал от тех историков, чьи взгляды формировались в противостоянии колониальному, расовому и классовому насилию. В историографии сталинизма существует давний спор между так называемой «тоталитарной школой» и «ревизионистами». В западных университетах в 1990-х годах победа осталась за ревизионистами, но в постсоветской России возобладала «тоталитарная модель». На деле эти модели дополняют друг друга: сторонники тоталитарной теории раскрывают механизмы вертикального контроля и идущего сверху вниз принуждения, в то время как ревизионисты обращают внимание на самодеятельность населения и активность низовых структур государства. Модифицируя ревизионистскую традицию после распада СССР, новое поколение историков перенесло свое внимание на практики самодисциплины, которые сформировались в умах и сердцах советских граждан, – практики, которые эти историки рассматривают как конструирование особой субъективности66. Одним из последствий этого направления исследований стала маргинализация массового насилия, которое перестало фигурировать в этих работах как определяющая черта сталинизма. Ханна Арендт и вслед за ней Цветан Тодоров считали террор сущностью тоталитарного государства67. Историография новой волны, напротив, сосредотачивает внимание на таких проявлениях субъективности, в которых свобода сохраняется даже во время террора, – дневниках, автобиографиях и снах.
Сосредотачиваясь на насилии и дискурсе, эти подходы ждут творческой интеграции. Массовое и все увеличивавшееся, государственное насилие сталинского периода (1928—1953) приучало граждан к практикам самодисциплины, таким как дневники. На советской «воле» эти практики распространялись только потому, что их фоном была лагерная зона, где дисциплина навязывалась извне, дневники были запрещены, а человеческая жизнь возвращалась к животным истокам. В этот период любой член советской элиты мог быть уволен, арестован, подвергнут пыткам и убит в любой момент и по множеству причин, в том числе из-за недостаточной лояльности. Для анализа идеологии, культуры и дискурсивных практик советской эпохи нужно понять господствовавшую в ней среду принуждения, насилия и неопределенности. Эта среда порождала комплекс таких эмоций, как страх, замешательство, возмущение, сострадание и горе, которые сопровождали жизнь в СССР. С теоретической точки зрения игнорировать насилие в СССР так же необоснованно, как и с исторической. Мишель Фуко, чьи труды вдохновляют историков советской субъективности, не игнорировал насилие как исторический феномен, а, напротив, подчеркивал его роль68.
Тем не менее недостаток внимания к советскому насилию стал заметной тенденцией, которую можно найти даже в лучших работах о советской жизни. Поучительные примеры этой тенденции дает книга антрополога Алексея Юрчака, посвященная «последнему советскому поколению», но неизбежно начинающаяся с предыдущего периода. Юрчак разработал оригинальную методологию, которая рассматривает идеологические действия как речевые акты, и сталинизм описан им исключительно в дискурсивных терминах, как господство «официальной речи». Юрчак называет Сталина «господствующей фигурой» идеологического дискурса, его «редактором», «имеющим уникальный доступ к внешней объективной истине»69. Но Юрчак не объясняет, как на практике работал этот парадоксальный механизм контроля над идеологическими спорами с помощью неидеологических средств.
С «внешней позиции», только насилие – угрозы, чистки, аресты, пытки, показательные процессы, казни и лагеря – могло сдвинуть в нужном направлении идеологические споры. Сталин мог контролировать или, в терминах Юрчака, «редактировать» высказывания других участников политического процесса потому, что в его руках были не только инструменты дискурсивной власти, но и физическая сила. Один из интересных примеров, к которым обращается Юрчак, – судьба книги «История Гражданской войны в СССР»70. Само название этой работы поразительно: в ней рассказывается история гражданской войны совсем не в СССР, а в России и на прилегающих к ней территориях в 1918—1922 годах, то есть до создания СССР. Конечно, в ней нет ни слова о последовавшем потом советском терроре, который и был, собственно говоря, «Гражданской войной в СССР». Ссылаясь на свои источники, Юрчак пишет, что Сталин «тщательно редактировал текст книги», предложив более 700 правок, принятых редакторами; в итоге первый том запланированного многотомника вышел в 1936 году тиражом в полмиллиона. Но Юрчак умалчивает о том, что произошло дальше. В течение года после выхода этого тома двое из восьми членов редколлегии и восемь из восемнадцати членов авторского коллектива были репрессированы: восемь из них были арестованы или убиты, один покончил самоубийством, боясь ареста, и еще один бежал за границу. Последующие тома так и не вышли в свет. Эта типичная для эпохи история раскрывает механизмы сталинского «метадискурса». В недалеком прошлом многие из авторов и редакторов этой книги были героическими полководцами и известными политиками; физическое насилие превратило их в стадо овец, которые рабски принимали сотни «поправок», менявших их собственную историю и память. Типичным был и итог этой истории: люди погибли, книги остались ненаписанными или неопубликованными, гражданская война в СССР продолжалась. Как писала Арендт, насилие не создает власть, а разрушает ее71. Символизированное ГУЛАГом и реализованное в нем насилие стало и катализатором советского дискурса, и механизмом его распада.
59
Arendt H. Social Science Techniques and the Study of Concentration Camps [1950] // Arendt H. Essays in Understanding. New York: Schocken, 1994. Р. 233, 240—241.
60
Scarry E. The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World. New York: Oxford University Press, 1985. Р. 56; см. также: Murav H. Russia’s Legal Fictions. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998. Р. 172. Палач обычно считает пытку средством, а не целью, но тот, кто ей подвергается, а также его друзья и потомки могут придерживаться противоположного мнения. В своем определении лагерей пыток я стремлюсь сформулировать взгляд жертв.
61
Соколов А.К. Указ. соч.; Khlevniuk O. The History of the Gulag: From Collectivization to the Great Terror. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2004. Крайний пример неэффективности ГУЛАГа см. в: Werth N. Cannibal Island: Death in a Siberian Gulag. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2007. Новый взгляд на насилие в лагерях см. в Alexopulos G. A Torture Memo: Reading Violence in the Gulag // Alexopulos G., Hessler J., Tomoff K. (Eds.). Writing the Stalin Era: Sheila Fitzpatrick and Soviet Historiography. New York: Palgrave, 2011. Р. 157—176.
62
См.: Герасимов И. Перед приходом тьмы: (Пере)ковка нового советского человека в 1920-х годах: свидетельства участников // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 297—320; Applebaum A. Gulag: A History of the Soviet Camps. London: Allen Lane, 2003. Р. 23; Barnes S.A. Death and Redemption: The GULAG and the Shaping of Soviet Society. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2011. Р. 36—41; Draskoczy J. The «Put» of Perekovka: Transforming Lives at Stalin’s White Sea-Baltic Canal // Russian Review. 2012. Vol. 71. Р. 30—48. Другие методы психологической трансформации см. в: Halfin I. From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000; Volkov V. The Concept of «Kul’turnost»: Notes on the Stalinist Civilizing Process // Fitzpatrick Sh. (Ed.). Stalinism: New Directions. London: Routledge, 2000. Р. 210—230; Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006. Об инструментальном использовании государственного насилия как средства идеологической и эстетической трансформации населения см.: Weiner A. Making Sense of War: The Second World War and the Fate of the Bolshevik Revolution. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001. Р. 26—30, 82—126; Holquist P. State Violence as Technique: The Logic of Violence in Soviet Totalitarianism // Weiner A. (ed.). Landscaping the Human Garden. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2003. Р. 19—45; Gerlach Ch., Werth N. State Violence – Violent Societies // Geyer M., Fitzpatrick Sh. (eds.). Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Р. 133—179. О недооцененных глубинах трансформации человека в Советском Союзе см.: Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанаализа в России. М., 1993; об особенно странном проекте см.: Etkind A. Beyond Eugenics: The Forgotten Scandal of Hybridizing Humans and Apes // Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 2008. Vol. 39. Р. 205—210.
63
Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. С. 96; Он же. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. Критику анализа «мусульман», голой жизни и роли свидетеля см. в: LaCapra D. Approaching Limit Events: Siting Agamben // Agamben G. Sovereignty and Life. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2007. Р. 126—162; Davis С. Haunted Subjects. Р. 119—126; Mazower M. Foucault, Agamben: Theory and the Nazis // boundary 2. 2008. Vol. 35. № 1. Р. 23—34.
64
О жертве и ее современном понимании см.: Boym S. Another Freedom. P. 37—68.
65
Santner E.L. The Royal Remains: The People’s Two Bodies and the Endgames of Sovereignty. Chicago: University of Chicago Press, 2011. Р. 6.
66
Halfin I. (ed.). Language and Revolution: Making Modern Political Identities. London: Frank Cass, 2002; Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2006; Etkind A. Soviet Subjectivity: Torture for the Sake of Salvation? // Kritika. 2005. Vol. 6. № 1. Р. 171—186; Chatterjee Ch., Petrone K. Models of Selfhood and Subjectivity: The Soviet Case in Historical Perspective // Slavic Review. 2008. Vol. 67. № 4. Р. 967—986.
67
См.: Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996; Todorov T. Facing the Extreme: Moral Life in Concentration Camps. New York: Holt, 1996. Р. 28.
68
Plamper J. Foucault’s Gulag // Kritika. 2002. Vol. 3. № 2. Р. 255—280. Взгляд на антропологию насилия см. в: Das V. (ed.). Violence and Subjectivity. Berkeley: University of California Press, 2000; Idem. Life and Words: Violence and Descent into the Ordinary. Berkeley: University of California Press, 2007.
69
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 51.
70
История Гражданской войны в СССР. М.: ОГИЗ, 1936.
71
Арендт Х. О насилии. М.: Новое издательство, 2014.