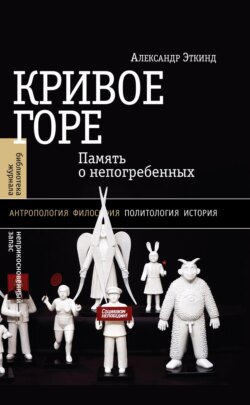Читать книгу Кривое горе. Память о непогребенных - Александр Эткинд - Страница 13
2. ГОРЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Первый коллапс
ОглавлениеМожно только предполагать, что бы произошло, если бы нацистская Германия выиграла Вторую мировую войну: осудил ли бы преемник Гитлера Холокост? В Советском Союзе те же люди и институты, которые организовали массовое насилие, позже разоблачили его. Ирония советской истории была в том, что основное достижение Сталина – военная мощь СССР – создало уникальную ситуацию, в которой преступному режиму пришлось развенчивать самого себя, заниматься самоанализом и, в конечном счете, саморазрушением. Потому что больше сделать это было некому.
В 1956 году Хрущев начал процесс десталинизации. Нет сомнений, что он сам был виновен в том, что назвал «репрессиями». Он руководил ими в течение десятилетий, будучи партийным главой «кровавых земель» Украины и Москвы76. Ничто не побуждало Хрущева признать свою вину, кроме памяти о терроре и страха перед его повторением77. Этот автономный, добровольный характер хрущевских откровений делает их уникальными, даже беспрецедентными для истории насилия в XX веке.
В 1953 году в СССР было 166 трудовых лагерей плюс множество пенитенциарных институтов других типов, от тюрем до спецпоселений. В них на тот момент отбывали срок около 10 миллионов заключенных, и почти все были выпущены на свободу между 1954 и 1956 годами78. Огромная система ГУЛАГа рухнула с поразительной легкостью, предвосхищая распад Советского Союза, произошедший спустя несколько десятилетий. К моменту своего знаменитого доклада на ХХ съезде КПСС в 1956 году Хрущев был в зените власти. Но, как вспоминал его сын, «к Сталину отец возвращался постоянно, он, казалось, был отравлен Сталиным, старался вытравить его из себя и не мог»79. Что двигало частичным разоблачением Сталина – личное покаяние или политический расчет? Сам Хрущев объяснял свой поступок с помощью гегелевской и отчасти фрейдовской идеи: преступление надо признать, чтобы оно не произошло снова. В его докладе на ХХ съезде и в более поздних мемуарах звучит один и тот же лейтмотив: «Это не должно повториться!» Горе и предостережение взаимосвязаны в этой риторике: первое предоставляет факты и аргументы, второе – мотивировки и оправдания. Хрущев предупреждал коллег по партийной элите: вы можете не каяться, от вас не требуется признаваться в преступлениях, но если вы не будете скорбеть по их жертвам, то унаследуете ту же судьбу. И действительно, Хрущеву удалось настолько трансформировать партийную верхушку, что он избежал худшего. Смещенный в 1964 году, бывший советский лидер прожил еще почти десять лет, успел продиктовать мемуары и был похоронен своей семьей. В Советском Союзе существовало популярное выражение: «Его судьба была счастливой – он умер в своей постели». В случае Хрущева эта роскошь была вполне заслуженной.
Нуждаясь в концептуальном аппарате, который ему не могли дать ни марксистская теория, ни наследие сталинизма, Хрущев придумал два собственных и довольно действенных понятия: «необоснованные репрессии» (что означало массовые аресты, пытки, убийства и лагеря) и «культ личности» (это понятие описывало идеологические практики, сопровождающие насилие). Оба понятия превращали Сталина в козла отпущения. «Необоснованные репрессии» предполагали, что предыдущий вождь стал причиной бессмысленной и немотивированной катастрофы. Квазирелигиозная идея «культа личности» обвиняла Сталина в том, что он нарушил марксистские нормы атеизма, рациональности и равенства. Хрущевский язык продолжает использоваться и в современной России.
Если нацистскому Холокосту положили конец посторонние ему люди и институты, то разоблачение советского террора было делом рук его бывших творцов и потенциальных жертв. Для говорящего, как и для исследователя, самоприменимые понятия таят серьезные эпистемологические проблемы. Я подозреваю, что многие из политических затруднений Хрущева связаны именно с парадоксальной логикой самоописания, которую когда-то, за 600 лет до нашей эры, раскрыл критский мудрец Эпименид. Этому критянину принадлежит знаменитый парадокс: «Все критяне – лжецы». Если это так, то и само утверждение ложно. Если все коммунисты верили в ложь, кто мог ее разоблачить? Хрущев опирался скорее на диалектику, чем на логику; и все же хрущевский метод самоприменения до сих пор мешает нам понять, представить и помнить советский террор. В ретроспективе его палачи и жертвы оказываются смешаны между собой, действие размазано, цели непонятны, а причины развивались по кругу. В итоге отказ от террора был и остается неполным.
Хрущевское и фрейдовское значения термина «репрессии» связаны между собой в их жуткой семантике. После смерти Сталина выжившие встречали тех, кто возвращался из лагерей, со смешанными чувствами – от ужаса до сострадания, от безразличия до враждебности. Возвращаясь, они приносили с собой опыт насилия, унижения и боли, который намного превосходил масштабы того, что испытывали их семьи, друзья и соседи «на воле». Знакомые и чужие, возвращенцы казались жуткими. Согласно знаменитому фрейдовскому определению, жуткое – это возвращение репрессированного, «скрытное-родное, подвергшееся вытеснению и вернувшееся из него»80. Палачи видели в уцелевших жертвах страшных мертвецов, вернувшихся, чтобы отомстить. Остальные воображали себе судьбу репрессированных в ужасных деталях, где смешивались устная история, собственные страхи и литературные образцы (см. главу 3). Вся страна превратилась в «зону контакта» между невинными жертвами ГУЛАГа и теми, кто был виновен хотя бы в том, что не попал туда81. В 1956 году Анна Ахматова сказала: «Теперь… две России взглянут друг другу в глаза – та, что сажала, и та, которую посадили»82. Обе России знали, что существует и третья – Россия погибших. Эта трехсторонняя связь, создав зону неразличения между голой жизнью и государственным правом, между репрессией и реабилитацией и, наконец, между горем и забвением, сформировала культурную динамику позднесоветского периода.
Следы неизбывного горя и навязчивого воспоминания запечатлелись во многих образцах позднесоветской (а потом и постсоветской) культуры. Ее невозможно нормализовать; пытаясь понять ее, ученые должны научиться чувствительности к жуткому, исковерканному, призрачному. Заслуживающий доверия свидетель – профессиональный историк, диссидент и впоследствии ведущая правозащитница Людмила Алексеева вспоминает, что в 1953 году московская публика была привычна к таким историям:
У моего двоюродного брата на работе одна женщина замужем за генералом МГБ. Она рассказывала, что как-то ночью проснулась от крика. Ее муж, весь в холодном поту, кричал во сне: «Простите меня, Дмитрий Иванович!» Она стала его трясти, разбудила и спрашивает, кто такой Дмитрий Иванович. Но генерал ничего не ответил. С тех пор каждую ночь генерал метался во сне и кричал, так что даже стал бояться ложиться спать. Через несколько недель он начал уже наяву разговаривать с невидимым Дмитрием Ивановичем. В конце концов его поместили в психушку. Жена у всех спрашивала, кто такой Дмитрий Иванович. Оказалось, это тот человек, которого в тридцать седьмом году генерал расстрелял из собственного револьвера83.
Более слабые, но сходные ощущения, свойственные запоздалому раскаянию, ощущали в это время те, кто раньше приветствовал советский социализм. Выйдя из Коммунистической партии Франции в 1956 году, писатель и политик, родившийся на Мартинике, Эме Сезар писал:
Хрущевские разоблачения Сталина достаточны для того, чтобы каждый, кто в какой-либо степени участвовал в коммунистической деятельности, погрузился в бездну шока, боли и стыда… Мертвые, запытанные, казненные – нет… это не те призраки, которых можно отогнать механической фразой. Теперь они будут водяными знаками… навязчивой идеей… болезнью… раной в самом сердце нашего сознания84.
Несмотря на всю разницу между преступным советским генералом и постколониальным интеллектуалом, оба видят призраки прошлого, боятся их и пользуются сходными способами для выражения своего опыта. Разница в том, что интеллектуал вполне осознает метафорический характер своего языка, а генерал кричит во сне и наяву о своих видениях.
Призвавшему к покаянию Хрущеву не удалось собрать достаточную поддержку в партии. Среди его сторонников из интеллигенции, многочисленной в технократическом и амбициозном Советском Союзе, были тысячи выживших в ГУЛАГе. Но это удивительное время закончилось в 1964-м, когда протест КПСС против непредсказуемых реформ привел к отставке Хрущева85. Илья Эренбург назвал этот период «оттепелью» – метафорой, выражавшей не только тепло и весеннюю радость, но и трагическую скоротечность этого времени года. В долгие годы застоя (1964—1985) власти вновь пытались ускользнуть от памяти о сталинизме. Полагаясь на оба значения слова «репрессия», психоаналитическое и советское, я называю этот период «репрессией репрессий». И все же эти непоследовательные шаги демонстрировали больше, чем скрывали. Изгнанная из политики и нашедшая прибежище в культуре, работа горя стала самой чувствительной из идеологических проблем позднесоветского периода. Трагически незавершенная, хрущевская «оттепель» оказалась самым успешным из российских проектов десталинизации. Коллективная скорбь выдвинула своих лидеров, которыми закономерно оказались поэты и писатели; их популярность в годы «оттепели» и после нее была беспрецедентной. Менее чем через десять лет после смерти Сталина Хрущев осуществил перформативное действие огромной важности – вынос его тела из мавзолея на Красной площади (1961). Новость воспринималась как чудо и утешение; я помню, как родители обсуждали эту новость с друзьями. Возможно, в этом состоял мой первый политический опыт.
76
О «кровавых землях» см.: Snyder T. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010.
77
Убедить Хрущева в том, что систему больше не удастся поддерживать, могли также восстания, начавшиеся в ГУЛАГе в 1953 году. См.: Applebaum A. Gulag: A History. London: Doubleday, 2003. Р. 484—507; Чубайс И. Реформатор поневоле // Независимая газета. 2009. 21 апреля.
78
Соколов А.К. Принуждение к труду в советской экономике. С. 65
79
Хрущев С.Н. Никита Хрущев. М.: Новости, 1994. Гл. 4.
80
Фрейд З. Жуткое. С. 290.
81
Термин «зона контакта» (contact zone) был выдвинут в постколониальных исследованиях, чтобы описать встречи и конфликты между колонизаторами и колонизуемыми. См.: Pratt M.L. Imperial Eyes: Travel Writing and Acculturation. London: Routledge, 1992.
82
Ахматова произнесла эту фразу 4 марта 1956 года, через неделю после окончания XX съезда КПСС. См.: Чуковская Л. Записки об Ахматовой. М.: Согласие, 1997. Т. 2. С. 190.
83
Алексеева Л., Гольдберг П. Поколение оттепели. М.: Захаров, 2006. С. 78—79.
84
Césaire A. Lettre à Maurice Thorez // Social Text. 2010. Vol. 28. № 2. Р. 145—152. Благодарю Нэнси Конди за указание на этот документ.
85
Сюрреалистическую образность, характерную для этого периода, использовал, например, Александр Твардовский в поэме «Теркин на том свете» (1954—1963). О культуре «оттепели» см.: Condee N. Cultural Codes of the Thaw // Taubman et al. (eds.). Nikita Khrushchev. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2000 Р. 160—176; Plamper J. Cultural Production, Cultural Consumption: Post-Stalin Hybrids // Kritika. 2005. Vol. 6. № 4. Р. 755—762; Reid S. The Soviet Art World in the Early Thaw // Third Text. 2006. Vol. 20. № 2. Р. 161—175; Jones P. (ed.). The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era. London: Routledge, 2006; Eadem. Memories of Terror or Terrorizing Memories? // Slavic and East European Journal. 2008. Vol. 86. № 2. Р. 346—371; Zubok V. Zhivago’s Children: The Last Russian Intelligentsia. Cambridge, Mass.: Belknap 2009; Прохоров А. Унаследованный дискурс: Парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе оттепели. СПб.: Академический проект, 2008.