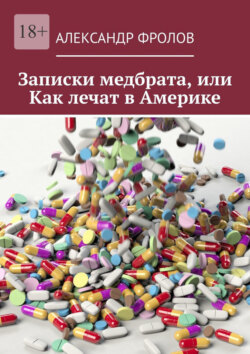Читать книгу Записки медбрата, или Как лечат в Америке - Александр Фролов - Страница 4
Часть 1.
Как я стал в Америке медбратом
Глава 2. Куда уходят деньги?
ОглавлениеОбзор американских зарплат будет лишён всякого смысла, если не описать, расходы. Общество чётко разделено на классы, и каждый класс живёт в своём районе: сидящие на социальном пособии живут в трущобах; рядом с ними расположены рабочие районы, в которых живут рабочие с маленькой зарплатой; район рабочего класса плавно переходит в район, в котором живут те, которые уже заявляют свои претензии на средний класс. Есть районы, в которых живёт крепкий средний класс (если помните, разброс по доходам у тех, кого относят к среднему классу, достаточно широкий). К району крепкого среднего класса примыкает район так называемого «верхнего среднего класса». Рассмотрим жизнь каждого класса, начиная с самого низа.
Ещё во времена СССР по телевизору показывали негритянское гетто и рассказывали, как там плохо жить. Но советский телезритель видел джинсы на обитателях трущоб и делал вывод, что там всё-таки не так уж и плохо. Во время Перестройки телевидение прямо навязывало мнение, что уровень жизни в трущобах, по сравнению с нами, якобы высокий. И даже сегодня, в 21-м веке, в рамках информационной войны, в социальные сети время от времени вбрасывают информацию о размерах американских пособий, подталкивая тем самым россиян к выводу, что американское гетто якобы живёт лучше, не говоря уже работающих американцах. А как обстоят дела на самом деле? Трущобы – это прежде всего разгул криминала. В нашей местной газете как-то была опубликована статья, в которой утверждалось, что дети, которые живут в гетто, примерно раз в неделю слышат звуки выстрелов. В той же статье цитировалось интервью с афроамериканской семьёй. Глава семьи расказал, что, когда по вечерам они смотрят дома телевизор и за окном начинается стрельба, они все ложаться на пол. (Стены ведь фанерные, пуля может пробить.) Когда стрельба заканчивается, они встают и дальше смотрят телевизор. Рассказчик описывает данную ситуацию спокойно, без эмоций. Сразу чувствуется, что к этому все привыкли, это для них норма.
Школы плохие. Основная проблема, безусловно, в том, что обитатели гетто к знаниям не тянутся, поэтому на уроках дисциплины нет. Многие просто бросают школу и не получают аттестат. По статистике около двух миллионов американцев не умеют читать. Это, конечно, выпускники школ, расположенных в бедных районах. Но даже если в этой среде и найдётся в качестве исключения ученик, который тянется к знаниям, все равно реализовать свои способности такие ученики не могут. Во-первых, в классе они становятся изгоями. Их обзывают Orio. Так называется печенье, которое с одной стороны белое, а с другой – чёрное. Мол, ты афроамериканец, но хочешь жить как белый, поэтому ты больше не наш, но и не белый. К слову, трущобы есть не только негритянские: деградации среди белых тоже хватает. Но даже если ученик с успехом преодолеет давление сверстников, то всё равно школьная программа слабая. (Она значительно сильнее в школах для крепкого среднего класса, не говоря уже о тех, кто стоит выше этого самого среднего класса).
Что касается питания, существует стереотип, что американские бедняки едят самую плохую еду, потому что не могут позволить себе продукты более высокого качества. Это так, но лишь отчасти: они действительно покупают самые плохие продукты, но это не значит, что они самые дешёвые. В 90-х годах в Америку приезжало много эмигрантов из бывших советских республик, многие из них получали тогда точно такое же пособие, как и американские бедняки. На это пособие наши не жировали, но были сыты, одеты, обуты и даже время от времени посылали посылки и небольшие денежные переводы родственникам. Но американцы на пособии буквально голодают. Их дети часто едят раз в день, да и то в школе за государственный счёт, потому что с мозгами человека, который не умеет читать и считать, быть сытому невозможно. Даже в дешёвом магазине можно купить нормальные продукты, особенно если читать этикетки, и приготовить из них дешёвый, но хороший обед. Но варить они не умеют, хотя времени у них много, ведь на работу не ходят, поэтому покупают всё готовое, а это дорого. Обед у них может состоять из огромной пачки чипсов и бутылки дешёвого газированного напитка ярко-ядовитого цвета, который дешевле Кока-Колы, но всё равно намного дороже чая. Да и чипсы стоят дороже, чем обыкновенная картошка, но картошку нужно почистить, потом сварить и в добавок ещё кастрюлю помыть. Кстати, многие профессиональные бездельники позволяют себе такую роскошь, которую средний класс себе не позволит: они пользуются только одноразовой посудой, чтобы не мыть, хотя у них, в отличие от других, есть субсидия на воду и плата фиксированная, а не по счётчику, как у всех. Что такое уборка жилья они тоже не знают, поэтому в школах для бедных свирепствует педикулёз, или вшивость, если выражаться по-простому.
Медицинское обслуживание для американской бедноты, в отличие от всех остальных, бесплатное. Как их лечат? Об этом, собственно, и вся книга. Могу лишь сказать, что они сильно злоупотребляют бесплатной медициной. В отделение скорой помощи при больнице, в которой я работаю, регулярно, несколько раз в неделю, поступают пациенты с жалобами на то, что их покусали клопы. На Ютубе есть много юмористических коротких мультфильмов о том, как обитатель гетто вызывает скорую помощь по надуманному поводу и просит парамедика отвезти не просто в ближайшую больницу, а именно в ту, в которой, по мнению героя ролика, кормят лучше. Ничего подобного не может позволить себе средний класс. Нередки случаи, когда представитель среднего класса с болью в груди сам садиться за руль и едет в ближайшую больницу, подвергая тем самым опасности и себя, и других участников движения, потому что вызвать скорою ему не по карману. Если вызовет скорую и в больнице ему диагностируют инфаркт миокарда, тогда, страховка, если она у него ещё есть, может быть, и оплатит вызов. Но боль в груди – это ещё не обязательно инфаркт. Обычная изжога иногда может отдавать в грудь и вызывать симптомы, похожие на симптомы инфаркта. В таком случае страховка не заплатит за вызов ни цента, придётся платить самому, а это для многих – месячная зарплата, около трёх тысяч долларов. Но даже если страховка и оплатит вызов, то не полностью. Долларов 800 всё равно нужно заплатить из своего кармана.
С жизнью гетто разобрались. Теперь посмотрим на жизнь рабочего класса. Преступность в районах, в которых живут рабочие, значительно ниже, потому что, если человек работает, у него остаётся меньше времени на всякую дурь. Дома по своей планировке такие же, как и в трущобах, но чуть более ухоженные: если человек ходит на работу, то может следить и за собой, и за своим жильём. Говоря об ухоженности, нужно понимать, что всё относительно. Если в рабочем районе увидите дом, который особо выделяется ухоженностью, значит в нём, скорее всего, живёт семья эмигрантов. Что касается школ, они особенно не отличаются от школ в гетто, потому что рабочий класс в Америке тоже не ценит образование. Хотя дисциплина в школах, где учатся дети рабочих, может быть, чуть-чуть лучше. Но если встречаются такие родители, которые всё-таки хотят, чтобы их дети учились, тогда есть альтернатива: дешёвая, от двух до четырёх тысяч долларов в год, частная школа. Дешёвая в том смысле, что дешевле уже нет, но для рабочего это всё равно дорого. Дисциплина в частных школах хорошая, а значит, есть у педагогов возможность эффективно преподавать. Но эта возможность не используется в полной мере, потому что учебная программа всё равно слабая. За счёт дисциплины школьники осваивают слабую программу лучше, чем учащиеся государственных школ, и становятся конкурентоспособными. Но их конкурентоспособность ограничивается своим социально-экономическим классом. Тягаться с выпускниками школ из зажиточных районов они всё равно не могут, так как учебная программа в таких школах лучше. Расскажу о своём дальнем родственнике-американце, который учился в дешёвой частной школе. Окончив школу, он сразу не получил аттестат, потому что родители не могли заплатить за последний год обучения. Стефану, так зовут родственника, пришлось около года проработать в Макдональдсе, чтобы отдать долг и забрать свой аттестат. В школе он чётко усвоил, что у него гуманитарный склад ума и математика ему не даётся. Но тем не менее решил идти учиться в дорогой частный университет на физический факультет. Ему кто-то сказал, что у физиков в НАСА очень высокая зарплата, поэтому он решил стать физиком. Отучился год, потратил на учёбу 20 тысяч долларов, которые взял в кредит, и бросил университет. Не потянул. Я спросил его, в чём дело. Он начал невнятно жаловаться, что, мол, слишком много формул и задач. Другими словами, в частной школе он даже не получил представления о физике! В университете для него стало полной неожиданностью – узнать, что физика – это по сути та же самая математика, к которой у него нет таланта. Этот урок стоил ему 20 тысяч долларов, которые он отдаёт до сих пор. После неудачной попытки стать физиком, Стефан пошёл в морфлот на четыре года. Долги за учёбу на время службы замораживаются. Находясь на службе, он заочно учился за счёт Минобороны (в Америке так можно) и получил диплом бакалавра по истории. После службы с дипломом бакалавра пошёл на юридический факультет. (На юридический факультет, так же, как и в медуниверситет принимают не со школьным аттестатом, а с дипломом бакалавра). В долг уже не залазил: Минобороны оплачивает учёбу тем, кто отслужил. Но на юрфаке он проучился тоже только год и бросил, потому что узнал, что реальная жизнь адвоката отличается от общепринятых представлений. Считается, что адвокаты – состоятельные люди, которые зарабатывают либо много, либо очень много. Реальность такая, что сразу после окончания университета молодые юристы выполняют работу секретарши в течение нескольких лет. Работают часов по семьдесят в неделю, а зарабатывают от 28 тысяч в год грязными, меньше, чем рабочие. Правда, если проявляют себя с хорошей стороны, быстро идут вверх по служебной лестнице. Что касается больших заработков, которыми славятся адвокаты, то они появляются только после сорока лет. А в молодости нет ни денег, ни времени на личную жизнь; нет и времени на воспитание детей. Да и в средних годах времени нет, потому что хоть и зарабатывают много, но всё равно работают по семьдесят часов в неделю, а то и больше. Поэтому он пошёл на государственную работу в отдел по делам ветеранов. У него – четверо детей, и есть время на семью. Хорошую работу в отделе ветеранов он получил благодаря тому, что отслужил в морфлоте. От идеи больших заработков он отказался, так как понял, что большие деньги в Америке зарабатываются за счёт семьи.
Итак, рабочий класс. Их доход выше, чем у обитателей трущоб, но и жильё в рабочих районах дороже. Рабочий живёт от зарплаты до зарплаты, потому что тот дополнительный доход, который у него есть по сравнению с сидящими на пособии, он отдаёт за то, чтобы жить не в трущобах с запредельным уровнем преступности, а рядом.
А теперь посмотрим, как живёт тот самый средний класс, который является основой общества. Прежде всего, нужно уяснить, что большинство американцев, по некоторым данным семьдесят процентов, живёт от зарплаты до зарплаты, и притом не имеет значения, какая зарплата – маленькая, средняя, большая или очень большая. Дело в том, что система устроена очень хитро: чем больше зарабатываешь, тем больше должен. Опишу два показательных случая, о которых мне довелось прочитать. Санитарка в доме престарелых, зарплата небольшая, долларов одиннадцать в час, пошла учиться в колледж, совмещая работу с учёбой. После окончания учёбы, она стала медсестрой и её зарплата выросла в два раза. Но денег стало не хватать, хотя раньше, когда зарплата была в два раза меньше, хватало. Дело в том, что когда она была санитаркой с маленькой зарплатой, получала от государства субсидии на жильё, садик; была бесплатная медицинская страховка. Но когда зарплата увеличилась, субсидии забрали. В статье не было указано семейное положение бывшей санитарки, но, очевидно, она мать-одиночка.
Или описанный в прессе такой случай. Рабочий с зарплатой двенадцать долларов в час попросил своего начальника уменьшить зарплату до девяти долларов. Ситуация выглядит курьёзно, если учесть, что американцы обычно просят начальников поднять зарплату. На самом деле всё продуманно. На зарплату двенадцать долларов в час рабочий не может позволить себе медицинскую страховку, а бесплатная от государства тоже не положена, так как двенадцать долларов – это, по мнению, государства слишком много. Но при уменьшении почасовой зарплаты на три доллара, ему автоматически становится положена бесплатная страховка плюс различные субсидии.
На налоги у среднего класса уходит примерно двадцать процентов зарплаты: федеральный налог – десять процентов, семь с половиной процента – в пенсионный фонд, пять процентов – налог штата, два-три процента – городской налог. (Городской налог и налог штата могут отличаться в зависимости от места жительства). Эти налоги финансируют медицинские услуги только для самых бедных. Средний класс должен страховку покупать. Когда она у меня была, я платил за неё на семью из пяти человек процентов десять от зарплаты, но есть семьи, которые платят больше. Зависит от места работы. Цена страховки к зарплате не привязана, значит мои помощники с меньшими доходами за такую же страховку платят двадцать процентов от зарплаты. Но одной страховкой дело не обходится: на зубы и глаза – страховки отдельные, так что для того, чтобы полностью застраховать своё здоровье, нужно три страховки, но и они не спасают от дополнительных расходов в случае болезни: страховка оплачивает не всё лечение, а только восемьдесят процентов, причём первые две тысячи не оплачивает вообще. Таким образом, если больница выставит счёт десять тысяч за несколько дней лечения, тогда придётся выложить из кармана две тысячи плюс двадцать процентов от восьми тысяч. То есть за самое простое лечение придётся доплатить месячную зарплату. Если болезнь серьёзная, вроде онкологии, тогда счёт может запросто превышать и сто тысяч, в дополнение к ежемесячным страховым взносам. Вот почему шестьдесят процентов всех банкротств в США – из-за долгов за лечение.
Дома в районах, в которых проживает средний класс, – дороже жилья, в котором живёт рабочий класс, а значит банкиры больше получают денег в виде процентов за ипотеку, дороже страховка, которая при покупке жилья в кредит обязательна. В дополнение ко всему – налог на недвижимость. В рабочем районе нашего города этот налог составляет около полутора тысяч в год; слабый средний класс платит тысячи четыре; крепкий средний класс платит около восьми тысяч; в элитном районе, в котором проживают солидные бизнесмены и врачи, дома стоят два-три миллиона, а налог на недвижимость – до сорока тысяч. В среднем американец работает полтора месяца в год, чтобы заплатить этот налог.
Школы финансируются государством, но не полностью: часть средств они получают из городского бюджета. Поэтому чем дороже район и выше налог на недвижимость, тем лучше школы. Другими словами, за хорошую, на первый взгляд, бесплатную государственную школу нужно ежегодно доплачивать круглую сумму в виде налога на недвижимость. Кого не устраивает государственная школа, может послать детей в частну. Такая школа будет стоить тысяч десять в год, но программа там лучше, чем в частной школе за две тысячи.
То же самое можно сказать и про полицию: в зажиточных районах они лучше следят за порядком, потому что получают дополнительное финансирование из налога на недвижимость.
Дома у среднего класса более уютные, более комфортабельные по сравнению с теми в которых живут всякого рода помощники со скромной зарплатой. Но не уют является решающим фактором при покупке дорогостоящего жилья. Главный мотив – личная безопасность и приличная школа для детей. Если бы в рабочих районах были бы хорошие школы и низкий уровень преступности, многие предпочли бы комфорту более дешёвое жильё, и не жили бы от зарплаты до зарплаты.
В любом американском колледже в курсе психологии изучают пирамиду потребностей Маслоу – американского психолога русского происхождения. Согласно этой пирамиде, базовой потребностью человека является потребность в еде, воде, тепле, отдыхе. Когда человек сыт и одет, на первый план выходит безопасность, – это вторая потребность. Ради безопасности кто-то устанавливает железные двери, кто-то – дополнительные замки. Но всё это – одноразовое вложение денежных средств. В Америке же хорошо поняли пирамиду потребностей человека, поэтому общество устроено так, что все его члены, начиная от рабочего и выше, отдают львиную долю своих доходов, на первый взгляд, за более комфортное жильё, а на самом деле – за безопасность.
Итак, средний класс – каким мы его себе представляем? Средний класс – это костяк общества, который выполняет важную для общества и страны работу. Их за это уважают и в знак уважения хорошо им платят, благодаря чему у среднего класса нет серьёзных финансовых проблем, но есть финансовая независимость, есть возможность растить детей. Россияне с низкой зарплатой считают, что именно такая жизнь должна наступить, если их доходы вырастут. На самом деле далеко не все американцы, которые выполняет важную работу, получают хорошую зарплату, потому что их искусственно причислили к разряду помощников. Те же, которым платят достойно, сидят по уши в долгах и работают по двенадцать часов в день. В отпуск ездят на океан, но, как правило, больше одной недели отдыха на берегу позволить себе не могут. Гарантированный декретный отпуск – шесть недель. Если уйти в декрет немного раньше, тогда после рождения ребёнка молодая мама имеет в своём распоряжении то, что осталось от шести недель. Поэтому беременные работают до последнего дня. В больших компаниях, правда, декретный отпуск может быть три месяца, но это дополнительное время – по милости работодателя. Сидеть дома за свой счёт мало кто может, потому что рождение ребёнка не предусматривает никаких поблажек с выплатой ипотеки или кредита за учёбу. В результате нет прироста населения среди среднего класса. А вот у обитателей гетто картина другая. Бесплатное медобслуживание и пособия на каждого ребёнка. Чем больше детей – тем больше пособие. В их среде население растёт за счёт рождаемости. Государство кормит этих детей, но хорошим образованием не обеспечивают поэтому, когда дети вырастают, не становятся продуктивными членами общества. Средний класс, который может собственным примером привить трудолюбие своим детям, не имеет возможности их родить. Вот почему Америка при населении 310 миллионов и дальше остаётся зависимой от притока образованных или просто трудолюбивых эмигрантов.
И тем не менее американцы стремятся быть в числе среднего класса. Не ради финансовой свободы, которой у среднего класса меньше, чем у обитателей гетто, а ради безопасности, ради привилегии жить подальше от этого самого гетто. А также ради возможности послать своих детей в школу, которая чуточку лучше, чем та, в которую посылают своих детей, стоящие на социальной лестнице на одну ступеньку ниже. Но надо понимать, что в тех школах, которые считаются хорошими, программа всё равно намного слабее, чем в обычной российской школе.