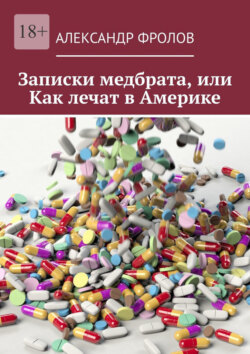Читать книгу Записки медбрата, или Как лечат в Америке - Александр Фролов - Страница 9
Часть 1.
Как я стал в Америке медбратом
Глава 7. Работа санитаром
ОглавлениеВ июле 2005 года, после того как был отчислен из колледжа в первый раз, начал работать санитаром. Здание больницы, в которую я устроился, было новее и лучше по сравнению с теми лечебными учреждениями, в которых уже успел побывать как практикант. Просторные палаты с высокими потолками произвели хорошее впечатление. Теперь у меня появилась возможность более внимательно присматриваться к больным, наблюдать за жизнью и изучать систему для себя. Когда был студентом, такой возможности не было, так как всё внимание было сконцентрировано на написание планов по уходу и подготовку к контрольным.
Общаясь по-русски, я говорю, что работал санитаром, но на самом деле это не совсем так. Как я уже говорил, в Америке есть масса помощников, и названия этих специальностей можно перевести только описательно. Так вот, если точнее, работал помощником медсестры, или «ассистентом по уходу за больными», если дословно. Обязанностей больше, чем у санитарки в нашем понимании этого слова. Рабочий день начинался со смены постелей всем пациентам, и не важно, чистые простыни или нет. (Это было в середине нулевых. В конце десятых таким расточительством уже не занимались). Одна из основных обязанностей помощника – измерять у пациентов vital signs, или «жизненные признаки», если в дословном переводе. Санитары, а иногда и сами медсёстры как заведённые всем подряд измеряют температуру, пульс, давление, считают частоту дыхания. Вот эти четыре параметра и называются vital signs, или сокращённо vitals. В 2001 году к этим четырём традиционным признакам был добавлен ещё пятый – боль. Так что, измеряя давление, санитарка ещё и спросит, не испытывает ли пациент болей и если да, то просит оценить интенсивность по шкале от нуля до десяти, где ноль – отсутствие боли, а десять – самая страшная и невыносимая боль.
Филологи знают, что любой язык стремится к упрощению, и наличие сокращённой формы у данного термина свидетельствует о том, что медики употребляют этот термин очень часто. Русские врачи, которые подтвердили свой диплом в США, тоже пользуются этим термином на каждом шагу, но когда я их спрашиваю, как перевести vital signs на русский, они обычно на секундочку задумаются, на лице мелькнёт выражение растерянности, после чего скажут: «Ой, у нас и нет такого». Безусловно, в российских больницах измеряют пациентам и температуру, и давление, и пульс, если надо, но нет такой фанатичной зацикленности на самом процессе измерения этих параметров, поэтому и нет в русском языке медицинского термина, который бы соответствовал английскому термину vital signs. (И всё-таки я случайно узнал совсем недавно, что этот термин правильно переводится как «жизненные функции», но, очевидно, употребляется крайне редко, поэтому многие врачи его даже и не знают).
В мои обязанности также входило каждые два часа переворачивать лежачих больных, чтобы не появились пролежни. И тут в первый раз появилась возможность задуматься: «Почему так много лежачих»? Cтал внимательно пересматривать истории болезней. Если было записано, что больной перенёс инсульт, травму позвоночника или что-то в этом роде, тогда понятно, но таких лежачих было меньшинство! У большенства прикованных к постели диагнозы были самые обычные: гипертония, диабет, изжога, повышенный холестерин… Я не хочу приуменьшить серьёзность всех этих болезней, многие из которых в конечном итоге становятся причиной смерти, но тем не мение пенсионеры в России с такими диагнозами на даче работают, а американцы в постели лежат, и их нужно переворачивать. Бывало, повернёшь больного на один бок, приходишь через два часа, а он всё в том же положении. Говоришь, что пора поворачиваться на другой бок, а он берёт… и сам поворачивается! Попробуйте пролежать в одном положении два часа! Хорошо запомнил пациентку, бабульку лет семидесяти, которая поступила с диагнозом «пролежни». Она с видом большой начальницы разезжала по отделению в своей собственной инвалидной коляске с электромотором. А запомнил я её потому, что был крайне удивлён, когда узнал, что она может самостоятельно ходить и притом без палочки! Пролежни у человека, который может ходить, но добровольно сел в инвалидную коляску для удобства, – такого, уверен, российские медики не видели. За последующие четырнадцать лет работы я ещё несколько раз встречал подобное. В Америке чаще, чем в России, можно увидеть в общественных местах людей в колясках. Первое впечатление: страна заботится об инвалидах и сделала всё возможное, чтобы облегчить им жизнь. Но если в России колясками пользуются инвалиды, которые действительно не могут ходить, то в Америке часто садятся в коляски для удобства и те, у которых ноги ещё достаточно хорошо ходят. Если у инвалида в России парализованы ноги, но руки здоровы, он крутит колёса коляски руками. Американские колясочники руками колёса почти не крутят: их либо кто-то толкает, либо коляска с мотором, в результате чего организм быстро слабеет. Мне стало ясно, что обилие лежачих пациентов не оттого, что людей постигли страшные болезни, от которых в других странах они давно бы умерли, но американская медицина за них борется, а оттого, что они сами довели себя до такого состояния малоподвижным образом жизни.
Изучая истоии болезней, был не в меньшей степени шокирован и тем, что довольно часто, один-два раза в неделю, попадались записи об огнестрельных ранениях. Среди той категории лежачих больных, которые стали лежачими по уважительной причине, а не из-за лени, встречаются и такие, которым пуля повредила позвоночник. И ранены эти люди были не где-то в Ираке или Афганистане, а на улицах своих родных городов. По статистике в США ежегодно происходит 30 тысяч убийств, в основном из огнестрельного оружия, и ещё 70 тысяч получают пулевые ранения. То есть 700 тысяч за десять лет, почти полтора миллиона за двадцать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в лечебных учреждениях часто встречаются больные с историей огнестрельных ранений. Для меня в начале это было экзотикой, но со временем привык.
В больницах есть разные отделения, но это деление очень условное: на нашем этаже были и онкобольные, которые принимали химиотерапию, и пациенты с инфекционными заболеваниями, а персонал все время бегал от инфекционных больных к тем, которые проходили «химию», то есть к тем, у кого имунная система сильно ослаблена. Конечно, персонал обязан мыть руки между пациентами, но кто сказал, что инфекция переносится только из-за непомытых рук? К тому же медсёстры и руки не всегда моют, да это и не реально: если их мыть антибактериальным мылом каждый раз, когда в палату входишь и когда из неё выходишь, как это требуется по правилам, то есть раз пятьдесят в день, кожа просто слезет с рук. Была даже палата для туберкулёзников. (Во всех больницах, в которых я побывал, есть такая палата, и она распоможена в самом обычном отделении). Да, в таких палатах есть много предосторожностей. Одна из них – негативное давление. Когда двери открывают, благодаря этому давлению, воздух поступает только из коридора в палату, – в коридор воздух из такой палаты не выходит. Также заходить нужно только в распираторе. В России, возможно, и нет палат с негативным давлением, но и туберкулёзников никто не кладёт в одно отделение с онкобольными, что в плане контроля за распространением инфекции намного эффективнее.
В нашем отделении лежало много афроамериканцев с приступами экзотической для России болезни – серповидоклеточной анемии. Это наследственная болезнь, которой в основном страдают жители Африки, а также их потомки на американском континенте. При серповидоклеточной анемии наблюдается нарушение в строении белка гемоглобина: он приобретает серповидную форму. Периодическте эпизоты болей у таких людей связаны с тем, что эти серповидные клетки цепляются одна за другую, слипаются и блокируют капиллярные сосуды в грудной клетке, животе и суставах. Это замедляет поток крови и приток кислорода, что и вызывает сильные боли. К афроамериканцам нередко приходили посетители с маленькими детьми. Меня поразило, когда увидел, как маленькие дети сидели на полу и играли; некоторым детям не было и двух лет, и они, естественно, тянули игрушки с пола в рот. И никому до этого не было дела. Во всех коридорах больницы были ковры; они были «чистыми», в смысле без пятен, без видимой грязи. А в палатах лежали больные с инфекционными болезнями, с гнойными ранами… Медсёстры делали перевязки, бросали грязные бинты на пол, затем на подошве обуви переносили все эти бактерии на «чистое» ковровое покрытие. «В этих коврах полно микробов. Почему никто не скажет посетителям, чтобы не разрешали своим детям ползать по ковру?» – спрашивал я у других работников. Все со мной соглашались, что опасных бактерий на «чистом» полу действительно много, но никому не было дела до играющих на нём детей. По всему было видно, что они и не задумывались об этом, пока русский санитар с филологическим образованием не спросил. Кто-то задаст вопрос, почему я сам не сказал этим посетителям, что детям не следует сидеть на полу, а лишь надеялся, что это сделает кто-то другой? Потому что хорошо помнил свою работу в школе, помнил, как меня оттуда выгнали по многочисленным жалобам афроамериканского гетто за то, что мотивировал их чад приобретать знания. Затем мне не дали закончить колледж, и я был вынужден работать на самой низкой должности. И если малограмотные клиенты больницы, которые в Америке «всегда правы», не поймут моё предупреждение о бактериях, тогда они скорее всего пожалуются, что, дескать, какой-то говорящий с акцентом санитар не разрешает их детям игрть, и администрация встанет не на мою сторону, а на сторону безграмотных жалобщиков, а мне же этого совсем не нужно. «Но ведь кроме меня, были и работники с высоким положением, у которых не было причин бояться безосновательных жалоб», – рассуждая я.
В дополнение к измерению «жизненных признаков», в обязанности санитаров также входила документация «жидкостного баланса», то есть нужно было записывать, сколько жидкости выпил пациент и сколько миллилитров из него вышло. Для этого всем пациентам было рекомендовано пользоваться уткой. Были культурные пациенты, которые держали эту утку в уборной. (Все палаты были расчитаны на одного человека, и в каждой палате был индивидуальнй туалет). Но часто бывало и такое: заходишь в палату к пациенту, который может ходить – больной сидит. Перед ним на столике поднос стоит: он обедает. А на столике рядом с едой стоит ёмкость с жидкостью жёлтого цвета. Незнающий мог бы подумать, что это пиво, но это не пиво… Такую картину можно увидеть в любой больнице, и не только в тех палатах, в которых лежат обитатели трущоб: представители среднего класса тоже так делают. Один раз захожу в палату к восьмидесятилетнему дедушке, который лечился от пневмонии, а у него мочевыводящий катетер. Эти катеторы часто ставят лежачим больным, но этот дедушка был ходячим.
– А зачем Вам этот катетер поставили, – спросил я пациента.
– Мне сказали, что у меня плохо почки работают, и поэтому нужно точнее измерять, сколько выходит мочи, – ответил пациент.
Разве если использовать обычную утку, то результат такого измерения будет не достаточно точным? Неужто нужно вводить в больного трубку и тем самым калечить мочеиспускательную систему только ради того, чтобы подсчитать количество выделяемой мочи с точностью до миллилитра? – подумал я тогда, но ничего не сказал.
Не буду сейчас углублятся в это вопрос, но во второй части книги подробно расскажу, как всем подряд, и надо и не надо, устанавливают эти катеторы.
Как вы уже знаете, в мои обязанности входило измерять так называемые «жизненные признаки», и чем больше я это делал, тем больше убеждался, что даже такое, казалось бы, безобидное действие может принести вред, особенно если эту работу поручать малограмотным санитаркам. (Меня приняли на эту должность на том основании, что я закончил несколько семестров медсестринского колледжа. Но чтобы получить эту работу достаточно и двухнедельных курсов). В одной из палат лежал пациент, которому успешно семь лет назад пересадили сердце. Тут ничего не скажешь – кардиохирург выполнил свою работу на отлично. И этот пациент знал, что каждые четыре часа к нему в палату приходит санитарка и измеряет давление. Я видел картину шире и дополнительно знал, что в соседней палате лежал инфекцинный больной и вся кожа у него была красная из-за инфекции. И вот малограмотная санитарка измеряла давление пациенту с кожной инфекцией, затем шла в следующую палату – измерить давление тем же аппаратом пациенту с донорским сердцем. Откуда ей знать, что люди с пересаженными органами до конца своих дней должны принимать препараты, которые подавляют имунную систему, поэтому имунная система у них слабая, – значит пациент может с лёгкостью заразится той инфекционной болезнью, от которой лечится больной в соседней палате. Более того, санитарка просто обязана измерять давление, и не обязана знать подробности из истории болезни своих подопечных. Когда я был на смене, в первую очередь измерял давление больному с пересаженным сердцем, а потом шёл к инфекционному больному. Но у меня образование получше, чем у обычного санитара, просто вынужденно должен был работать на низкой должности. Через несколько дней пациента с пересаженным сердцем перевели в реанимацию, где он и умер. Семь лет жизни – неплохой результат: сейчас средняя продолжительность жизни с пересаженным сердцем – девять лет, а в середине нулевых такие люди в среднем жили пять лет. Кожной инфекцией от пациента из соседней палаты он не зразился, хотя такой риск явно был. А вообще раньше я и представить не мог, что какая-то санитарка с лёгкостью может умножить на ноль хорошую работу кардиохирурга, слепо выполняя свои обязанности, а ведь любой медик согласится, что в описанной ситуации лишь по счастливой случайности пациенту с ослабленной имунной системой не передалась инфекция от обитателя соседней палаты через аппарат для измерения давления. К тому же я уже рассказал в третьей главе о том, как малообразованная помощница фармацевта умножила на ноль отличную работу детского онколога.
И вот второй случай слепого следования протоколу. У пациентки Анны Фриман был рак в последней стадии. Целый день она стонала и корчилась от боли: обезболивающие не помогали. Где-то в пять часов врачи опустили руки и прекратили лечение: уже ничем не могли помочь. К шести вечера она наконец уснула. В семь я должен был её разбудить, чтобы измерить эти пресловутые «жизненные признаки». Я подошёл к медбрату Алексу с элитным титулом RN. (Анна Фриман была его пациенткой). Он пользовался уважением среди больных и работников как человек знающий своё дело.
– Слушай, – сказал я, – Анна Фриман весь день стонала от боли, и вот только уснула. Может, не надо её будить? Зачем ей измерять давление, если врачи уже отказались продолжать лечение и она умирает? – спросил я. – К тому же самое лёгкое прикосновение к её телу вызывало у неё нестерпимую боль.
– Нет, мы всё равно должны измерить её давление, – ответил мне Алекс.
– Но зачем? Врачи же уже от неё отказались, – спросил я.
Вразумительного ответа я так и не получил, но и настаивать на ответе не стал, так как уже сам знал, что сделаю, и продолжать эту дискуссию было теперь не в моих интересах, и не в интересах пациентки. Но этот короткий диалог наглядно демонстрирует тот факт, что медицинский термин vital signs обозначает не только измерение давления, темпиратуры, пульса, частоты дыхания, но и подразумивает фанатичную зацикленность на этом процессе. И вот семь часов вечера. Я зашёл в палату Анны Фриман и закрыл за собой дверь. Она мирно спала. Немного постоял… Нет, я не могу её разбудить. Записал «с потолка» в карточку давление, темпиратуру, пульс. Новые «показания» немного отличались от предыдущих. К одиннадцати вечера пациентка умерла.
Отсутствие врачей в больнице частично компенсируется тем, что называется standing order или в дословном переводе – «постоянное назначение». Проще говоря, это протокол, подписанный врачом. Медсестра не имеет права давать лекарства без назначения, а у врача нет времени писать стандартные назначения индивидуально для каждого больного. Выход из положения – это подписанный врачом протокол. Однажды мне попалось такое стандартное назначение. Там было написано: «Сделать прививку от гриппа сегодня. Если у пациента температура 38,5С или выше, прививку не делать, сделать через сутки после того, как темпиратура нормализуется». Рядом сидела медсестра с элитным титулом RN, то есть та, которая принимает окончательное решение – сделать прививку сегодня или подождать.
– Что, если темпиратура тридцать восемь и пять, прививку делать нельзя? – спросил я.
– Нет, нельзя.
– А если темпиратура тридцать восемь и четыре?
– Если тридцать восемь и четыре, тогда можно, – ответила медсестра без тени сомнения.
Медсёстрам я уже к тому времени не удивлялся, так как знал, как их учат. Но какой врач подписал этот абсурдный протокол со столь некорректной формулировкой? Сейчас я сам медбрат с «элитным» титулом, работаю в другой больнице, и у нас тоже есть аналогичный протокол. Согласно нашему протоколу, прививку от гриппа нельзя давать, если пациенту недавно пересадили костный мозг или если в прошлом он переболел синдромом Джулиана-Барре. Но в то же время в нашем протоколе ничего не сказано про высокую темпиратуру. Вот и получается, что если пациенту недавно пересадили костный мозг, то в нашей больнице ему не сделают прививку от гриппа. Но зато высокая темпиратура – не помеха для прививки, согласно нашего протокола. А вот в той больнице, в которой я когда-то работал санитаром, протокол всё же предписывает обращать внимание на высокую темпиратуру, но ни слова о недавней пересадке костного мозга или синдроме Джулиана-Барре. Моя должность низкая, хоть и титул, по американским меркам, «элитный». Никто не спрашивает моего мнения, но все же мне кажется, что список противопоказаний в данном случае должен быть единым для всех лечебных учреждений.
Или вот ещё пример с протоколом. Пришёл как-то в отделение в сопровождении жены новый пациент. Через некоторое время пациента зовут на ренген грудной клетки.
– Кто назначил флюрографию? – спросила жена пациента.
– Он кашляет, и по протоколу ему нужна флюрография.
– Нет, мы не можем с этим согласиться. Мой муж и так уже получил радиации больше, чем достаточно. Мы отказываемся от флюрографии.
Я ради интереса заглянул в историю болезни нового пациента. Оказывается, у него рак лёгких. Другими словами, человек начал кашлять и обратился к врачу. Врач диагностировал рак лёгких и направил его в больницу. В больнице по-новой хотели сделать ренген, потому что он кашляет. Вот такие бывают казусы. Конечно, если пациент поступил в больницу, потому что у него болит нога, и в больнице выяснилось, что ко всему этому он ещё и кашляет, тогда флюрография оправдана. Но если пациент поступил с раком лёгких для прохождения курса химиотерапии, тогда и так ясно, почему он кашляет, и ему дополнительная флюрография не нужна. Но рассуждать подобным образом имеет право только врач, которого там нет. Что касается той армии малообразованных помощников, они не имеют права рассуждать, они должны слепо следовать протоколу, и за малейшее отступление начальство с удовольствием отвинтит голову тому, кто осмелится просто подумать.
В больнице лечили как представителей трущоб, так и состоятельных, а значит хорошо образованных больных. Семья, поставившая под сомнение протокол и отказавшаяся от флюрографии, очевидно, была одной из таких. Когда было свободное время, я часто беседовал с образованными пациентами. Из каждой такой беседы узнавал что-то новое. Одна пациентка мне сказала, что объездила почти весь мир по работе.
– А кем вы работали, – спросил я.
– В нашей стране не хватает врачей, и я ездила по миру и приглашала докторов на рабоу в США.
– А разве не проще было бы увеличить количество медицинских университетов у себя?
– Нет, в нашей стране богатые сделали всё, чтобы медицинское образование было недоступным для бедных, – ответила она с многозначительным выражением лица.
И ещё пару слов о шаблонах. По протоколу всем больным подряд назначали препарат Нексиум, предназначенный для понижения кислотности. Вряд ли кто-то из медиков в России догадается, зачем это делали. Стресс может стать причиной язвы. Госпитализация всегда связана со стрессом, проэтому считалось, что все пациенты в группе риска, вот им и давали Нексиум для профилактики язвы желудка. Для кого-то госпитализация, безусловно, является стрессом, но не для всех. Есть отдельная категория людей, особенно среди обитателей бедных районов, которая любит лежать в больнице. Но никто у пациентов не спрашивал, вызывает больничная атмосфера у них стресс, или же наооборот, им в больнице нравится, – всех «грузили» в те годы препаратом для понижения кислотности. Но у Нексиума есть и побочные действия: бессонница или сонливость, головокружение, мышечная слабость, боли в суставах, – и это далеко не полный список. Если у больного проявятся побочные действия данного препарата, как тогда понять, что это всего лишь побочные действия профилактического препарата, а не осложнение основной болезни? Тем более врач не видит пациента, а доведывается о больном по телефону. Понятно, что Нексиум для всех подрят – это результат лоббирования фармакологическими компаниями своих интересов, а не забота о пациентах. К тому же в начале нулевых годов Нексиум стоил очень дорого.
Однажды наблюдал работу врачей. Они склонились над пациентом, рассматривая свежий шов. На животе пациента места живого не было – всё было в шрамах от предыдущих операций. Я заглянул в палату. «Что они на живот смотрят, лучше бы на мусорный бак внимание обратили», – подумал я тогда. Мусорное ведро до краёв было заполнено пустыми баночками из-под Кока-Колы, а на столе стояло ещё штук пятьдесят таких же баночек. Представление о диете у них, мягко говоря, странное: если у пациента больное сердце, ему на завтрак ни за что не дадут омлет, потому что в яйцах содержится много холестерина. И это при том, что уже доказано: потребелние яиц не способствует повышению уровня холестерина в крови, и британские кардиологи уже официально признали, что яйца сердцу не вредят. В любом случае, одно яйцо на завтрак не повредит, что не скажешь про Кака-Колу, которую без проблем дают пациентам с обострением болезней системы пищеварения.
Тем временем к нам пришла новая медсестра по имени Шонтая. Она только закончила колледж, и это была её первая работа на медестринской должности. Трудно ей давались первые месяцы работы: мало знала, плохо понимала, не успевала закончить свою работу вовремя, хотя и старалась. И всё время жаловалась, что не чувствует повышения зарплаты, так как долг за учёбу – 40 тысяч, и каждый месяц нужно отчислять в счёт погашения долга приличную сумму. «Как же она закончила колледж и получила диплом, если так туго соображает?» – думал я. Всё просто. Я уже писал, что чем больше зарабатываешь, тем больше должен. Исключением из этого правила можно считать медсестёр с элитным титулом RN: их образование может стоить всего несколько тысяч. Я сам учился в таком недорогом коллежде. Учёба в нем стоила дёшево, но к студентам относились буквально по-скотски, выгоняли пачками по всякому поводу и без повода, что я уже подробно описл. Но кроме дешёвых, ещё есть дорогие частные медсестринские колледжи. Именно в одном из таких дорогих колледжей училась Шонтая, и в таких учебных заведениях к студентам относятся хорошо, подлых подножек не ставят. Тогда шёл пятый год моего пребывания в США. Многого я ещё тогда не знал, но благодаря этому случаю, понял, что, оказывается, есть выбор: учиться в дешёвом коллежде, терпеть издевательства, постоянно бояться и при этом надеяться, что в награду, может быть, получишь ценный диплом и при этом не будешь иметь большого долга. Или идти в дорогой коллежд, где к тебе будут относиться хорошо, заваливать не будут, но после окончания учёбы будешь по уши в долгах. Со мной в колледже учился некий Юджин. Он рассказывал, что перед тем как поступить в колледж на медсестринский факультет, он хотел учиться на фармацевта-фармаколога. (В Америке эти две специальности объеденены в одну). Юджин мне рассказывал, что на фармакологический факультет трудно поступить, но, если поступил, не выгоняют. Если чего-то не понимаешь, будут объяснять, пока не поймёшь. К этому можно добавить, что из медуниверситетов тоже студентов не выгоняют. Почему так, Юджин не знал и не задумывался. Я же думаю, что всё упирается в интересы банков. Если каждого второго студента отчислять из медуниверситетов, и отчисленные студенты будут вынужден идти на простую работу с обычной зарплатой, тогда эти несостоявшиеся врачи не смогут отдать долг за проваленную учёбу, который, напомню, в нулевых годах в среднем составлял 200 тысяч, а сейчас, в конце десятых, – целых полмиллиона и даже больше. Банки в таком случае были бы в убытке. Что касается дешёвых медсестринских колледжев, то самые бедные учатся в них бесплатно; кто чуточку побогаче и не имеет права на учёбу за государственный счёт, тот берёт в кредит всего несколько тысяч, которые можно успешно выплачивать и из зарплаты рабочего. Так что, выгоняя с учёбы больше половины студентов, дешёвые колледжи не наносят ущерб банкам.
Осознание этой реальности пришло в середине нулевых, когда ещё были яркие воспоминания о жизни до эмиграции. На Украине коррупция в системе образования всегда была на порядок выше, чем в России. Даже в 70-х – 80-х годах, до развала СССР, многие украинцы, особенно из западных областей, ехали в Россию, чтобы поступить в интститут без денег. Родители учеников, особенно всё в той же западной части Украины, с советских времён привыкли носить индивидуальные подарки школьным учителям, чтобы учителя относились к их детям лучше и внимательнее. Вот таким образом ученики школ и студенты ВУЗов на Украине традиционно покупали хорошее отношение к себе и хорошие оценки за взятку, и, очевидно, делают это до сих пор. Учителя тоже привыкли к таким подачкам и всегда относились плохо к тем ученикам, чьи родитель всё-таки осмеливались не подлизываться. (Такова особенность западноукраинской ментальности, сложившейся в силу того исторического факта, что они в течение сотен лет находились в составе Польши, где их держали за людей второго сорта). В Америке, оказывается, и хорошие оценки, и хорошее отношение тоже покупаются, но только платить нужно официально. Да и в газетах время от времени пишут, что оценки у студентов в дорогих часных колледжах и университетах выше, чем у студентов в дешёвых учебных заведениях.
Взаимоотношения между медсёстрами были хорошие, что было предметом особой гордости нашего отделения. И вот однажды пришла к нам Люси, новая медсестра. Её сразу все невзлюбили, и было за что. Мне тоже не нравилось с ней работать: на каждом шагу она давала мне почувствовать, что она по должности старшая, а я лишь её помощник. И вот однажды мне сказали, что все медсёстры сговорились и решили её выжить. Меня тоже пригласили в группу заговорщиков. Никто не совершенен. И если коллектив хочет от кого-то избавится, все дружно начинают следить за каждым шагом жертвы и докладывать менеджеру о всех допущенных оплошностях и промахах, при этом всё преувеличивается, из мухи раздувают слона. Рано или поздно менеджер увольняет сотрудника, которого все «пасут». Я отказался в этом участвовать. Более того, я написал отличную характеристику на Люси. Раз в год каждый сотрудник больницы должен был написать характеристику на своего коллегу, притом гарантировалась полная ананимность. Менеджер всё это читала. «Писали характеристики» – громко сказано. Многие американцы не в состоянии написать связанный текст. Поэтому был заранее напечатанный список утверждений, типа: «Этот сотрудник всегда проявляет старание». И напротив каждого утверждения нужно было отметить галочкой, согласен или нет. Меня попросили заполнить такую бумагу на Люси. Американцы заполняли друг на друга эту анкету без проблем, но я ведь знаю историю, знаю, что в Третьем рейхе тоже граждан заставляли анонимно писать подобные «характеристики» друг на друга. Отказаться от участия я не мог, анонимно критиковать тоже не мог, поэтому выразил полное соглачие с теми тезисами, которую характеризуют Люси с самой лучшей стороны. Меня даже менеджер потом спросила, или я понимаю, что анонимность мне гарантирована. Рано или поздно Люси уволили бы, но неожиданно у неё случился обширный инсульт, и на работу она не вернласть.
В больнице требовали писать характеристики не только на коллег по работе, но и на менеджера. Для того чтобы подчинённый высказал всё, что думает о своём начальнике, нужно гарантировать ему стопроцентную анонимность. Ради этого раз в год пользовались услугами Института Гэллапа. Его сотрудники раздавали анкеты, обрабатывали собранную информацию, затем сообщали руководству больницы, что думает персонал о менеджерах низшего и среднего звена. А вопросы были такими: «Беседовал ли ваш менеджер с вами лично о планах по расширению больницы до 2010 года?»
«Совести у них нет, – думал я. – Это же надо разорять больных людей счетами за лечение, а затем эти деньги выбрасывать на ветер, оплачивая услуги Института Гэллапа?
Впрочем, это было далеко не единственным расточением средств. Были и другие сомнительные и в то же время дорогостоящие проекты. Например, больница решила обзавестись… собственным гербом. Наняли компанию, которая этот герб придумала. Затем абсолютно все работники были обязаны посетить однодневные занятия, на которых объясняли значение символов, изображённых на гербе. Каждый должен был запомнить, какие знаки на гербе символизируют девиз больницы: лечить, учить, побеждать. Конечно, компании, которая придумала герб, заплатили немалые деньги; сколько – это большой секрет, который не должны знать сотрудники. Занятие проходило в нерабочее время, значит за его посещение заплатили каждому сверхурочные. В конечном итоге огромный герб повесили под самой крышой здания, чтобы был виден издалека. Он там до сих пор висит, закрывая собой довольно большую часть вентеляционной решётки. И куда только главный инженер смотрит?
На занятии по изучению геральдики также рассказали о принципе, по которому работает телестудия. Да, у больницы была собственная телестудия, которая транслировала свои передачи… аж на один телевизор, который стоял при входе. Сказали, что никто из посетителей не задерживает внимания на этом телевизоре больше, чем на пятнадцать секунд, поэтому каждые пятнадцать секунд на экране должно мелькать что-то такое, что врезается в память, чтобы у всех проходящих мимо в подсознании отложилось, как хорошо здесь лечат и заботятся. Но если бы действительно заботились, не стали бы разорять пациентов астрономическими счетами за лечение, а затем вкладывать эти деньги в герб, девиз и телестудию.
Нельзя сказать, что все нововведения были бестолковыми. Одно нововведение, которое пришлось на вторую половину нулевых, позволило сократить смертность пациентов а американских больницах на девяносто процентов! Добились столь впечатляющего результата за счёт введения нового кода. Все непредвиденные ситуации закодированы. Код «жёлтый», код «жёлтый», третий этаж, – объявляют по громкоговорящей связи, и все знают, что на третьем этаже произошёл разлив опасного химического вещества. Но такое случается крайне редко. Куда чаще приходится слышать: «Код «голубой», код «голубой» седьмой этаж, – и все знают, что у кого-то на седьмом этаже остановилось сердце. Раньше это выглядело так. Пациенту становилось хуже. Но врача в больнице нет, медсестра не имеет права оказывать врачебную помощь, если не хочет попасть в тюрьму, подобно акушерке Фриде, спасшей жизнь роженице. Поэтому медсестра звонит врачу, оставляет ему сообщение об ухудшемся состоянии больного. Врач не перезванивает; состояние больного продолжает ухудшаться – медсестра беспомощно следит за развитием ситуации… В конечном итоге медсестра заходит в палату – больной не дышит. Она моментально активирует код и начинает делать искусственное дыхание. По громкоговорящей связи звучит: «Код «голубой». Тем временем прибегатют другие медсёстры с тележкой, на которой стоит дефибрюлятор, а в ящичках лежат лекарства, необходимые при реанимационных мероприятиях. Пока одна медсестра ритмично давит на грудь, другая подклчают дефибрюлятор. На мониторе теперь можно видеть сердечный ритм, или его отсутствие. «Электоршок рекомендован, электрошок рекомендован», – говорит дефибрюлятор механическим голосом. Каждая секунда задержки с электрошоком снижает шанс больного выжить. Имеет ли право медсестра нажать кнопку, чтобы больной получил спасительный удар током? Имеет, но не каждая. Медсестра не имеет права слепо следовать рекомендации дефибрюлятора, выданной машинным голосом. Она должна посмотреть на монитор и сама понять, нужен электоршок или нет. Если на мониторе линия часто-часто прыгает вверх и вниз, значит у больного «вентрикулярная тахикдия», то есть сердце сокращвется с частотой 250 – 300 раз в минуту; за это время камеры сердца не успивают наполниться, значит сердце кровь не качает, бьётся вхолостую. Электрошок полностью останавливает сердце в надежде на то, что нормальное сердцебиение само собой востановится после полной остановки. Что если на мониторе прямая линия? В кино про больницу в таком случае пациент получает электрошок и оживает. Но как раз в этом случае электрошок и не нужен, потому что сердце полностью остановилось и электошок не может «вклычить» полностью остановившееся сердце. Если прямая линия, тогда сердце пытаются заставить вновь заработать не электрошоком, а при помощи внутривенных инъекций. Итак, какая медсестра имеет право нажать на кнопку дефибрюлятора самостоятельно? Весь медицинский персонал раз в два года обязан посещать онодневные курсы, на которых обучают делать непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию лёгких. Цель искусственного дыхания – поддержать циркуляцию, пока сердце не бьётся или бьётся неэффективно. И всё. Про дефибрюляцию на этих курсах упоминают лишь вскользь и про возможные варианты развития ситуации, про возможные сердечные ритмы вообще ничего не рассказывают. Медсестра, которая посетила лишь эти курсы, не имеет права нажимать на кнопку дефибрюлятора без команды врача, которого ещё нет. Но некоторые медсёстры в дополнение к курсам по искусственному дыханию, раз в два года также посещают дополнительные курсы, на которых достаточно глубоко излагают принципы реанимации. Если есть соостетствующий сертификат, а есть он далеко не у каждой медсестры, тогда такая медсестра имеет право самостоятельно дать электрошок. Как видим, в Америке важные знания даются дозированно, что в критической ситуации, когда счёт идёт на секунды, может привести к непоправимому.
Итак, сердце остановилорсь, медсёстры по очереди делают непрямой масаж сердца, по громкоговорящей связи непрерывно звучит: «Код «голубой», – при входе в палату мигает голубая лампочка. Кроме электрошока, бывает необходимо дать больному некоторые лекарства, как я уже сказал, но давать их без прямого указания врача не имеет права ни одна медсестра, включая и ту, которая отучилась один дополнительный день на дополнительных курсах. Доктора в обычном отделении нет, но он может быть в реанимационном отделении, а также в отделении скорой помощи. Услышавши код, врачи всё бросают и бегут в то отделение, в котором кого-то пытаются вернуь с того света. Но добежать занимает несколько минут. Врач прибегают – медсестра передаёт ему руководство, и доктор имеет право сказать медсестре, какое лекарство дать. Если сердцебиение возобновляется, тогда врач направляет больнрого в реанимацию, если нет, константирует смерть. Чаще, конечно, константирует смерть. Если медсестра зашла в палату и пациент не дышит, обязана начать делать непрямой массаж сердца. Но с момента остановки сердца до прихода медсестры может пройти и десять, и двадцать и шестьдесят минут. Во всех этих случаях и непрямой масаж сердца, и электрошок не имеет смысла. Впрочем, протокол реанимационных мероприятий не поменялся: каким он был раньше, таким остаётся и сейчас. За счёт чего же сократилась смертность в больницах на девяносто процентов? Где-то в далёкой Австралии кому-то пришла в голову «гениальная» мысль. Её суть в том, что врачебную помощь нужно оказывать сразу, как только состояние больного ухудшилось, а не после того, как сердце остановилось. Ввели код, который называется «быстрое реагирование». Теперь если состояние больного резко ухудшается, он, скажем, задыхается, медсестре уже не надо ждать полной остановки сердца, чтобы активировать код «голубой» и тем самым позвать врача. На этот случай теперь есть особый код. «Быстрое реагирование, быстрое реагирование, четвёртый этаж», – звучит по громкоговорящей связи, и врач из реанимации или отделения скорой помощи спешит к больному, который ещё дышит. Этот код хорошо зарекомендовал себя в Австралии, и во второй половине нулевых двадцать первого века его позаимствовала и американская система здравоохранения. До двадцать первого века, они не знали, что врачебную помощь нужно оказывать не после остановки сердца, а сразу, как только состояние начало ухудшаться. Но, как говорится, лучше поздно чем никогда…
На работе мы обсуждали случай, который произошёл в одной из самых известных больниц страны и был освещён в СМИ. Хирургическая медсестра со стажем 26 лет, была уволена за то, что опубликовала книгу, в которой описала свою работу. Она сравнила больницу с тюрьмой, в которой «медсёстры должны быть в союзе с определёнными хирургами, которые обеспечивают им поддержку в зависимости от своего статуса в иерархии». Она написала правду, и за это лишилась работы. (Я уже писал, что в США имеют право уволить по любой причине, а также и без объяснения причин). Таким образом, работая санитаром, я не только имел возможность изучить больницу с самого низа, но также имел возможность понять, что такое «свобода слова» по-американски. И вот много лет спустя, в июле 2018 года, я гулял по Летнему саду в Санкт-Петербурге и разговорился там с туристом из США.
– Мне рассказали, как советское правительство преследовало людей только за то, что они что-то сказали, с чем-то не согласились, – поделился американец своими впечатлениями.
– У вас под «свободой слова» понимается, что правительство не имеет права наказывать граждан за высказанное мнение. И вы этим гордитесь. Но в то же время работодатель имеет право уволить человека по любой причине, в том числе и за высказанное мнение. Какая разница, кто наказывает, правительство или работодатель?
– Можно найти другую работу, если выгонят, – возразил американец.
– Уборщик или посудомойщик может, но мнение этих людей никому не интересно. Но если человек занимает высокую должность, найти новую равноценную работу в таком случае не так просто. Поиск хорошей работы обычно затягивается на многие месяцы, а то и годы, тем более после увольнения. А долги по ипотеке отдавать надо, налог на недвижимость платить надо. Медицинская страховка тоже нужна, но её в Америке обычно теряют вместе с работой. Так что длинный язык может довести до банкротства с последующим перездом из хорошего района в гетто, где и жить опасно, и нет возможности дать детям хорошее образование. Это все знают, поэтому при всей «свободе слова» предпочитают помалкивать, – сказал я.
– Уволенный сотрудник может в суд подать, – не унимался американец.
– Если по закону можно уволить без объяснения причин, тогда шансы выиграть дело в суде крайне ничтожны. Кроме того, от подачи заявления до суда проходит несколько лет. Как прожить эти годы без работы? Уволенный работник в таком случае должен будет оплачивать и работу своего адвоката, а его услуги стоят дорого. Для безработного это непосильное бремя. Что касается компании, на которую подали в суд, так для неё расходы на адвоката не чувствительны. И даже если и выиграет уволенный сотрудник иск, что крайне сомнительно, то получит только деньги в качестве компенсации. Пристижную работу и положение в обществе суд не вернёт.
Турист из Америки возразить не смог.