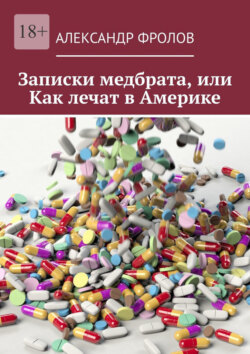Читать книгу Записки медбрата, или Как лечат в Америке - Александр Фролов - Страница 8
Часть 1.
Как я стал в Америке медбратом
Глава 6. Учёба в колледже
ОглавлениеУ них в некоторых штатах число свободного падения равно десяти. Конгресс так решил этого штата.
М. Задорнов
Итак, с работой в «международной» школе не сложилось, а в других учебных заведениях города русский не изучают. Даже если бы школа оказалась нормальной, профессионального будущего всё равно не было. Для преподавания нужна лицензия. Чтобы её получить, нужно окончить бакалавриат по выбранной специальности, затем пойти в магистратуру, где концентрируется внимание на предметах педагогического цикла, и их там больше, чем в наших пединститутах. По ходу можно сделать вывод об уровне подготовки американских учителей. После окончания школы – знания на уровне нашего шестого-седьмого класса. Четыре года бакалавриата – за это время они подтягиваются до уровня наших старшеклассников, после чего ещё два года магистратуры с упором на методику преподавания. То есть выпускника российской школы можно сразу посылать в магистратуру, после окончания которой он будет готов учительствовать в США.
С моим дипломом филолога я не мог получить лицензию. Так как у американских учителей по семь уроков в день, у них нет возможности подменять своих коллег, если кто-то заболеет. Для этого есть подменные учителя. У них тоже есть лицензия, но другая, поэтому им платят намного меньше, чем обычным учителям. Именно такую лицензию я должен был получить, но за два месяца не успел. Требования для получения такой лицензии – минимальны. Достаточно иметь диплом бакалавра по любой специальности, хоть диплом повара. Работать обычным учителем и получать на уровне подменного – это, конечно, не дело. Стало ясно, что нужно получать американское образование. Выбор был сделан, решил стать медбратом. Программа – всего четыре семестра, и в каждой газете объявления: «Требуются медсёстры с элитным титулом RN, зарплата высокая».
Учёба в колледже начинается с индивидуальной консультации. Говоришь консультанту, какой диплом хочешь, и он тебе даёт список предметов, которые нужно пройти. Затем сам составляешь себе расписание. Например, нужно пройти семестр английского. Данный предмет предлагается несколько раз в день в разное время. Выбираешь подходящее время и регистрируешься. Система очень гибкая и удобная. Но есть недостаток: студенты не знают друг друга. Пришёл на один предмет, отучился, сразу после окончания побежал на другой, а там – совсем другая группа. Как и в наших университетах, всегда находишься в гуще людей, но в Америке ты их не знаешь, и они тебя тоже не знают. Общение минимальное.
Для получения медсестринского диплома нужно сперва пройти цикл общеобразовательных предметов. Затем с оценками по этим предметам поступаешь на медсестринское отделение. Принимают не по конкурсу самых лучших, а всех, кто набрал проходной балл. Так как проходной балл низкий, всего три с половиной в переводе на нашу пятибалльную систему, то и количество имеющих право продолжать учёбу значительно больше, чем мест. Приходится ждать своей очереди по три-четыре года.
Итак, начался курс общеобразовательных предметов. Математика. Учебник был внушительных размеров, около тысячи страниц. На обложке была фотография какой-то металлической конструкции и большими буквами было написано: «Алгебра для студентов технических и медицинских специальностей». В предисловии читаем: «Лёгкоатлет такой-то на олимпийских играх в Австралии вышел на дистанцию в позолоченных кроссовках. Компания-изготовитель использовала пять граммов золота на позолоту. Как эти пять граммов повлияли на результат спортсмена? Об этом вы узнаете во второй главе». Да, условие задачи – интригующие. Открываем вторую главу, а там – простенькое объяснение, как составить пропорцию. При помощи пропорции пять граммов переводятся в унции и делается вывод, что золота слишком мало, чтобы повлиять на результат. Условие задачи составлено из расчёта, что большинство студентов «технических и медицинских специальностей» не знают метрической системы. Но старая английская система измерений с фунтами и милями используется в Америке только в быту. Поэтому было бы логично ожидать детальное объяснение метрической системы, так как именно ей пользуются и в технике, и в медицине, но такое объяснение для студентов технических и медицинских специальностей отсутствовало. Эта задача рисует нам великолепную картину сути американского образования. Студентам преподносят материал в яркой упаковке, а в середине – примитивнейшая информация. Но у студента создаётся впечатление, что он изучает что-то очень сложное, у него появляется повод гордиться собой. В третьей главе учебника шла речь о нахождении среднего арифметического. Вот задача по этой теме: «Студент, изучающий палеонтологию, получил на контрольных работах следующие оценки: (оценки перечисляются). Этот студент подошёл к преподавателю и спросил: „Какую оценку мне нужно получить на итоговой контрольной, чтобы иметь четвёрку за семестр?“ Что ответил ему преподаватель?» И тут я задумался: «То ли автор учебника палеонтологов не любит, то ли у него случайно так получилось, что студент, получающий высшее образование, не может сам разобраться со своими оценками?» И такая «вода» во всём учебнике, цена которого – почти 300 долларов.
Алгебра – обязательный предмет, но были предметы и на выбор. Я выбрал географию и зарегистрировался на заочный курс. Купил учебник. Открыл, а там самой географии – процентов десять. Но было много информации про историю Китая и культуру Индии. «Вот и приехал», – подумал я. – Нет у меня времени изучать историю Китая». Пошёл на экзамен в надежде хоть как-то выкрутиться на тройку. Читаю вопрос: «Какой самый большой порт в Англии?» Опять влип. Откуда я знаю, какой порт у них самый большой? Не было этого в учебнике. Но, прочитавши варианты ответов, про себя рассмеялся. Варианты такие:
1. Токио
2. Сингапур
3. Берлин
4. Ливерпуль
Короче, по географии пять, а учебник за 250 долларов можно было бы и не покупать. Из всех общеобразовательных предметов на пользу пошли только два семестра по анатомии и один семестр по микробиологии. Среди студентов, изучающих анатомию, даже сформировалось некоторое подобие студенческого коллектива в нашем понимании этого слова. В колледже был уголок, в котором находились модели органов и костей. Студенты регулярно в нём собирались для изучения названий частей органов, где имели возможность общаться между собой. Но первый семестр закончился; на второй семестр каждый записался в ту группу, которая была ему удобнее по времени, и коллектив распался.
В начале семестра трудно было найти место, где поставить машину, но к концу семестра свободных мест на парковке – хоть отбавляй. Да и в группах количество студентов заметно уменьшалось. Записался на предмет, походил немного, не понравилось и бросил. На следующий семестр попробует опять или выберет другой предмет, если тот предмет, который бросил, был не обязательным, а по выбору. Это обычная практика, которую руководство колледжа поощряет. В конце каждой темы – контрольная, оценка за семестр – средний балл за все контрольные. Получил плохую оценку на контрольной, и колледж присылает студенту письмо следующего содержания: «Мы ценим ваши усилия, которые вы предпринимаете для получения образования. Мы понимаем, что по каким-то причинам у вас что-то не получилось, поэтому советуем бросить этот предмет, а в следующем семестре попробуете опять. Если бросите этот предмет, оценку за него не получите; если продолжите посещать занятия, итоговая оценка может быть плохой». Если бросаешь предмет в течение первых двух недель, деньги возвращают. Если после – деньги пропали. Бросить предмет и продолжать его посещение в качестве вольного слушателя – нельзя, хотя и заплачено. Но если не бросил, тогда под конец семестра многие преподаватели подтягивали студентов. Например, всей группе могли подарить три процента. Оценки выставляются в процентах, затем переводятся в пятибалльную систему. 70% – это тройка, всё, что ниже – двойка. Так что если не дотянул пару процентов до тройки, три лишних процента могли спасти.
По ходу дела выяснилось, что мне вовсе не нужно ждать три-четыре года, чтобы начать учёбу на программе. Студенты, которые уже имеют высшее образование, могут пойти на ускоренный курс, который длится четырнадцать месяцев и на который нет очереди. Ускоренный курс тоже состоит из четырёх семестров, но только нет летних каникул. Вместо каникул – короткий летний семестр.
Принёс я в колледж официальный перевод своего диплома, с которым работал учителем, а мне говорят: «Переводы этого агентства мы не признаём». Пришлось опять платить 250 долларов за новый перевод, в котором было жирными буквами написано, что он предназначен исключительно для продолжения учёбы и притом только в этом колледже, и ни в каком другом. В переводе также было сказано, что ни один из предметов, которые я изучал в университете на Украине, не засчитывается. Однако высшее образование само по себе было признано, поэтому меня взяли на ускоренный курс.
И вот меня приняли на программу. Месяца за два до начала первого десятинедельного летнего семестра, состоялась встреча студентов с преподавателями кафедры. «Мы хорошо понимаем, что у всех вас уже есть высшее образование, поэтому высоко ценим то духовное и интеллектуальное богатство, которое вы принесли на нашу кафедру», – сказала декан во вступительном поздравлении. Также было сказано, что у них на программе всё очень строго. Если на общеобразовательных предметах достаточно 70%, чтобы получить тройку, то на медсестринском факультете нужно набрать 75%. Если получил 74, 99%, отчисляют, так как ни о каких округлениях, как в курсе общеобразовательных предметов, не может быть и речи. Она также сказала, что из шестидесяти студентов предыдущего набора, дипломы получили только двадцать восемь человек. Затем выступил другой преподаватель, афроамериканец лет шестидесяти, участник Вьетнамской войны. «Во время учёбы вы будете истекать кровью и не спрашивайте меня почему», – сказал он в своём выступлении. Я не раз слышал от американцев, что учиться на медсестринском факультете очень трудно, намного труднее, чем изучать общеобразовательные предметы. «Почему труднее? – возражал я. – Мы уже успешно прошли анатомию и микробиологию, значит фундамент заложен. Когда знаешь основу, продолжать учёбу всегда легче». Ответить на мои доводы они не могли, лишь говорили, что скоро я сам всё увижу. В конце выступала миссис Деворак. Она сказала, что в течение первых пяти недель каждый должен получить сертификат о прохождении курса по изучению искусственного дыхания. На перерыве я спросил, что это за сертификат, на что она ответила, что на лекциях скажет об этом больше. Её ответ меня полностью удовлетворил; я даже подумать тогда не мог, что это и был первый удар ножом в спину.
И вот начались лекции. Первые пять недель – введение в медсестринское дело. Я ожидал, что будет много информации по медицине, а оказалось – лекции ни о чём. То же самое можно сказать и про учебник: растянутую на десятки страниц информацию без всякого ущерба можно было бы сжать до одного абзаца. «Медсестра – это адвокат пациента», – говорила нам в лекциях миссис Деворак. «Разве пациенты преступники, что им адвокаты нужны?» – думал я про себя. Вы уже знаете, что в американских больницах нет врачей. Больной высказывает жалобы на самочувствие в первую очередь медсестре, а она пересказывает эти жалобы доктору по телефону. Вот это и называется «адвокатской» деятельностью медсестры. Но как я тогда мог это понять, если я ещё не знал, что в больницах нет врачей? Буквально тремя предложениями я описал суть вопроса, и вы всё поняли. Но ни из длиннющей лекции миссис Деворак, ни из пространного описания в учебнике я тогда так ничего и не понял. Долго говорить и ничего не сказать – для этого тоже нужен талант. Все две недели нам также неустанно талдычили, что нельзя задавать пациенту вопросы, которые начинаются с вопросительного слова «почему». Это якобы создаёт у пациента впечатление, что он на какие-то вопросы должен отвечать, в то время как он ничего и никому не должен. Даже выполняли упражнение: всей группой мозговали, как спросить больного диабетом «почему он продолжает есть много сахара» таким образом, чтобы и ответ на вопрос получить, и наречия «почему» не употребить. Словом, бред.
Два раза в неделю практика в больнице. Сразу бросилось в глаза, что львиная доля докторов, которые забегают в больницу сделать обход, говорят с акцентом, то есть они эмигранты. Состояние больных плохое. Если окинуть взглядом американскую больницу и сравнить увиденное с российской, наши пациенты в общем выглядят лучше: веселее, подвижнее, больше общаются друг с другом. «У нас эти люди давно бы умерли, а здесь их лечат», – подумал тогда я. Но много рассуждать над увиденным и анализировать не было времени. Нужно было писать планы по уходу за больными. Уход за больными называется медсестринским процессом, который разбит на пять этапов, и все эти этапы должны были быть отражены в планах. Достать таблетку из ящика и дать её пациенту – это, по нашим понятиям, один шаг. В Америке этот один шаг теоретически разбивается на пять маленьких шажков. Но я не умею растягивать на страницу писанины то, что могу толково объяснить одним предложением, поэтому мои планы по уходу за больными постоянно возвращали мне на доработку. Помню, написал план, прочитал, и самому стало противно. Как я мог написать такой примитивизм? Но как написать лучше, не знал, уже вычерпал все идеи. Сдал эту писанину, думаю: «Будет что будет, выгонят так выгонят». Но меня похвалили, сказали, что я наконец понял, как нужно писать планы. И вот первая контрольная. Объяснили, что если в курсе общеобразовательных предметов на контрольных было четыре варианта ответов, три из которых неправильные, а один правильный, то теперь будут вопросы на критическое мышление, цель которых – проверить не знания, а умение применять знания на практике. Сказали, что все четыре варианта ответов могут быть правильными, и нужно в таком случае выбрать самый правильный. Первый вопрос застал меня врасплох: «Как называется экзамен на лицензию, который нужно сдать после окончания колледжа?» В лекции об этом говорили, но я и не думал запоминать. А зачем? Первого сентября на первом курсе филфака нам тоже сказали, что в конце пятого курса будет Государственный экзамен. Но никто первокурсников не спрашивал на оценку, как называется экзамен, который предстоит сдать через пять лет. Комментируя этот вопрос после контрольной, миссис Деворак сказала: «В лекции я вам сказала аббревиатуру, которой обычно называют этот экзамен. Правильный ответ на контрольной – это тот, в котором дана верная расшифровка данной аббревиатуры». Да, сильное критическое мышление, ничего не скажешь… На лекции сказали, что людям с сердечной недостаточностью нельзя употреблять много соли. Вопрос на контрольной: «Какой сок нельзя пить людям с больным сердцем?» Я сразу обратил внимание на томатный и начал рассуждать: «Томатный сок можно выпить и без соли. Соль людям с больным сердцем можно, но в малом количестве. Так что сок можно чуть-чуть посолить. Можно посолить и больше, а что-то другое съесть без соли. Нет, этот вопрос не про соль. Тогда про что? Что-то я в лекциях прослушал», – и ткнул наугад в апельсиновый сок. Неправильно. Оказалось, что правильный ответ всё-таки томатный сок. Здравая логика против так называемого «критического мышления» оказалась бессильной. Или вот ещё вопрос: «Какое место работы самое лучшее для медсестры, которая проходит реабилитацию от наркозависимости?» Понятно, что ей лучше работать там, где нет наркотических препаратов. Мой вариант ответа: «Ортопедическая поликлиника». Переломы, конечно, болят, но я решил, что поликлиника не стационар, поэтому там наркотических обезболивающих не дают. Оказалось, что дают. Чтобы не думали, что я на все вопросы ответил неправильно, процитирую и тот вопрос, на который ответил правильно: «Какой вопрос является контрпродуктивным при разговоре с пациентом?» Четыре варианта ответа. Правильный вариант – вопрос, который начинается с наречия «почему». Это я понял. Но в общем я написал эту контрольную хуже всех, всего на 66%, таким образом сразу же повис на волоске. Впереди только одна контрольная, на которой мне теперь нужно получить 84%, чтобы вытянуть на трояк.
А между тем, преподаватель ничего не упоминает о прохождении курса по изучению искусственного дыхания. Я сам к ней подошёл и спросил, и она ответила то же самое, что говорила на первой встрече: «Сертификат нужно получить до начала шестой недели. У кого его не будет, того отчислят». Никакой новой информации. Я спросил у других студентов, и они мне толково объяснили. Все сотрудники больницы должны иметь сертификат о прохождении этого курса. Если даже санитарка войдёт в палату и увидит, что пациент не дышит, должна уметь начать делать искусственное дыхание. Это понятно. Но я думал, что этому учат в колледже. Оказалось, что в программу колледжа это не входит. Есть независимые однодневные курсы, где этому обучают, и вот эти курсы нужно самостоятельно посетить и предъявить сертификат. Все студенты об этом знали, так как работали в больницах либо санитарами, либо ещё какими-то помощниками и у них такие сертификаты уже были. Такая система. Если бы преподаватель сразу толково ответила на мой вопрос, я бы тоже прошёл этот однодневный курс ещё до начала семестра. А так моё положение ещё больше ухудшилось: теперь мне не только нужно усиленно готовится к решающей контрольной работе, но ещё и выкроить один день на эти курсы. Сам не знаю как, но я смог и сертификат вовремя получить и контрольную хорошо написать. Но двое студентов не смогли, поэтому к началу шестой недели нас осталось пятьдесят восемь.
Вторая половина семестра – пятинедельный курс геронтологии, в котором практически ничего не рассказывали о старческих болезнях, а только объясняли с точки зрения психологии, что это такое – быть стариком. В учебнике были длинные и бесплодные рассуждения о том, что, когда нынешняя молодёжь постареет, ей захочется пользоваться компьютерами в домах престарелых. «Кто будет платить за Интернет в доме престарелых?» – терзался вопросом автор учебника.
Также отмечалось, что население страны стареет, средняя продолжительность жизни и дальше якобы будет расти, поэтому геронтология – важная дисциплина. «Каждый второй американец, которому сегодня пятьдесят, доживёт до ста, – говорила преподаватель в 2004 году. В том же духе тогда писали и во всех газетах. «Как может продолжительность жизни постоянно расти, если количество американцев, страдающих ожирением тоже растёт», – подумал я про себя. И только я это подумал, преподаватель продолжила: «Один умный врач сказал, что средняя продолжительность жизни дальше расти не может, потому что заболеваемость гипертонией, раком, диабетом тоже растёт, причём эти болезни неуклонно молодеют». Она несколько раз повторила, что врач, пришедший к такому выводу, очень умный. А ведь мне, студенту первого семестра, которого едва не отчислили за неуспеваемость, тоже пришли на ум такие же самые мысли, как и этому умному врачу, который вопреки официальной точки зрения, сказал обратное.
В начале нулевых в США подняли пенсионный возраст с 65 до 67 лет, а также предупредили, что в будущем он может вырасти до 69. Государство вкладывало деньги в исследования в области геронтологии, а врачи-геронтологи публиковали свои научные работы, в которых предсказывали рост продолжительности жизни до ста лет, а политики, ссылаясь на эти публикации, работали над повышением пенсионного возраста. Так что врач, который не согласился с тем, что из ныне здравствующих американцев чуть ли не все доживут до ста, оказался не столько умным, сколько честным.
Мои оценки во второй половине семестра стали лучше; я уверенно тянул на тройку, и отчисление мне не грозило, или, лучше сказать, я больше не висел на волоске. Летний семестр подошёл к концу; написали последнюю контрольную по геронтологии, по итогам которой процентов двадцать студентов отчислили за неуспеваемость.
Преподаватель-афроамериканец, который говорил, что мы будем истекать кровью, не читал лекций, следовательно, не давал контрольных работ. Он только вёл практику в больнице. Все пять студентов из его подгруппы были отчислены. Он их буквально измучивал написанием планов по уходу за больными, постоянно к чему-то придирался и заставлял переделывать снова и снова. В результате у его студентов не было времени подготовится к контрольной и они вылетели.
Приближался второй семестр, которого ждали со страхом. Самая ужасная для американцев тема второго семестра – жидкостно-электролитный баланс. Эта как раз та тема, которую абсолютно не знала помощник фармацевта, поэтому и приготовила лекарство не на основе физраствора, а на основе 23-процентного раствора натрия хлорида, в результате чего маленькая пациентка скончалась. Я получил за эту тему девяносто процентов, не дотянув одного процента до пятёрки. Мог бы получить и все сто, если бы нормальные вопросы не были бы разбавлены вопросами ни о чём. Вот пример вопроса ни о чём, по теме жидкостно-электролитный баланс. В лекции сказали, что китайцы якобы верят в то, что потерянная кровь не восстанавливается, поэтому отказываются сдавать кровь на анализ. Вопрос: «Представитель какой культуры вероятнее всего откажется сдать кровь на анализ? Американцы за счёт таких вопросов компенсировали слабое понимание важной темы. Я на этот вопрос тоже ответил правильно, но один студент умудрился этот вопрос завалить. И как вы думаете, кто это был? Это был студент-китаец. Он не обратил внимание на то, что сказала преподаватель о китайской культуре, а когда увидел этот вопрос на контрольной, растерялся, но при этом точно знал, что кто угодно, но только не китайцы, боятся сдавать кровь на анализ. Наугад он ткнул в вариант «мексиканцы», и оказалось неправильно. «Первый раз я слышу, что китайцы верят, что кровь не восстанавливается», – сказал студент-китаец, комментируя этот вопрос. Итак, по электролитам было всего две лекции, после чего к этому вопросу больше не возвращались. То же самое можно сказать и про другие важные темы. Зато и во втором семестре продолжали талдычить, что нельзя задавать пациентам вопросы, которые начинаются со слова «почему», хотя в реальной жизни такие вопросы задают пациентам каждый день и никто не обижается.
Учёба двигалась со скрипом у всей группы. Пятёрок не было вообще, четвёрки были только у тех, кто перед этим уже прошёл этот семестр хотя бы частично, но был отчислен за неуспеваемость, восстановился и теперь проходил этот семестр по второму кругу. У всех остальных были двойки и тройки. Большинство двоечников набирали на контрольных 73—74%, лишь чуточку не дотягивая до заветных семидесяти пяти. А счастливчики-троечники получали 76—77%. Мы привыкли, что, если студент старается, получает четвёрки и пятёрки, если нет – тогда двойки и тройки. У нас старались все, но разница между успевающими и неуспевающими была на уровне погрешности. На лекции перед контрольной выделялось время для вопросов. Ответы преподавателя иногда были исчерпывающие и ясные, но на некоторые вопросы ответы были запутаны и туманны. Казалось, что преподаватель сама этого не знает. Но приходила контрольная, и тех вопросов, на которые был дан ясный ответ, там не было, а те вопросы, от ответов на которые преподаватель ушла, – были. А вот второй метод поставить подножку. Заканчивали одну тему и в конце лекции начинали новую. На следующем занятии – контрольная по пройденной теме, но при этом вставляли и несколько вопросов из новой темы, которую только-только начали изучать, и ещё никто ничего не понял. После того как эти вопросы были успешно провалены, тему продолжали и всё становилось понятно. Но на итоговой контрольной тех вопросов, которые сперва провалили, а потом поняли, уже не было. Были вопросы, на которые все четыре варианта ответов были правильны, но нужно было выбрать самый правильный. Какой вариант самый правильный – здесь не было единого мнения даже среди самих преподавателей. Официально считался тот ответ верным, который считал правильным тот преподаватель, который спрашивал. И если мнение студента не совпадало с крайне субъективным мнением преподавателя, студент безапелляционно терял балл, которого в конце семестра могло не хватить, чтобы вытянуть на заветную тройку. Перед началом учёбы я планировал, что буду читать не только учебники, но и дополнительную литературу для общего развития. Но в процессе учёбы я быстро понял, что это плохая идея, так как для успеха нужно знать только мнение преподавателя. За лишние знания студент автоматически наказывается, потому что в таком случае из четырёх правильных ответов труднее выбрать тот, который считает самым правильным твой преподаватель.
Ответы на вопросы записывали не только на листочках для контрольных, но и дублировали запись на черновике. После того как контрольные были собраны, преподаватель читала правильные ответы, а студенты их сверяли со своими черновиками. В конце проверки нередко раздавались громкие рыдания и стоны на всю аудиторию. А мне постоянно вспоминались слова декана, сказанные на первой встрече: «Мы хорошо понимаем, что у всех вас уже есть высшее образование, поэтому высоко ценим то духовное и интеллектуальное богатство, которое вы принесли на нашу кафедру». Но если бы ценили, тогда бы учили, а не ставили подножки.
В те дни я часто вспоминал преподавателя зарубежной литературы Галину Леонтьевну Рубанову, которая преподавала у нас на филфаке. У неё трудно было сдать зачёт, многие пересдавали по несколько раз, но при этом она говорила, что за свои сорок лет работы не выгнала ни одного студента. «Выгнать студента – это огромная ответственность», – говорила Галина Леонтьевна. А здесь студентов гнали десятками, преподаватели входили в азарт от такого количества «крови», и наплевать им на судьбу человека, которого они должны учить. Преподаватели без чести и совести. У меня шли дела намного лучше, чем в первой половине первого семестра, но далеко не идеально. Вот примеры вопросов, на которые я не смог ответить правильно. Итак, вопрос: «На какую проблему нужно обратить внимание в первую очередь?» Два варианта ответов сразу отпали, осталось два, над которыми стоило подумать: давление 92/58 и жалоба на боль 8/10. (В американской медицине есть так называемая «шкала боли». Если пациент жалуется на боль, медсестра просит оценить боль по десятибалльной шкале, где десять – самая ужасная боль, которую только можно себе представить). Итак, на что нужно обратить внимание в первую очередь? Вопрос идиотский. Со своим русским менталитетом я привык подходить к любой проблеме комплексно. Как можно отдать приоритет какому-то одному симптому, когда оба симптома могут быть проявлением одной и той же проблемы? И что должно мне помешать рассмотреть эти две проблемы одновременно? Так какой же вариант, по их мнению, правильный? Я вспомнил, что уже видел подобную ситуацию в больнице на практике. У одной пациентки было низкое давление, примерно такое же, как и в условии задачи, и она тоже жаловалась на боль. На низкое давление тогда никто внимания не обратил, но морфий для обезболивания вкололи сразу, что могло ещё сильнее понизить давление. Итак, мой ответ – боль. Оказалось неправильно, нужно в первую очередь обратить внимание на давление.
– Почему на давление? В больнице я видел аналогичный случай, так там в первую очередь обратили внимание на боль, – спросил я у преподавателя.
– Никогда не применяйте на контрольных работах то, что вы видели на практике, – ответила она.
Этот ответ ничего не объясняет, он из той же области, что и «я расскажу вам больше о сертификате на лекции», чего она так и не сделала. Но теперь я знаю, чём заключалась моя ошибка. В начале первого семестра нам дали огромный список рекомендованной литературы. Бесплатно в библиотеке этих книг нет, а в магазине – от ста долларов за книгу. Я купил только те, которые посчитал самыми нужными. Одна из рекомендованных книг была о том, как рассчитать дозу лекарства, а вторая называлась «Стратегия успешного написания контрольных работ». Обе книги упакованы в целлофан, предварительно просмотреть перед покупкой нельзя. Я решил, что книга про стратегию – это лишнее. Нужно просто читать учебник и ходить на лекции – и тогда успех гарантирован. А вот книгу про то, как рассчитать дозу, нужно взять. На вид в книге было страниц восемьдесят, и я предположил, что там содержится много важной информации. А оказалось, что на целых восемьдесят страниц там растянули объяснение, как решить задачу, типа: «Врач назначил препарат, 750 миллиграммов. Одна таблетка содержит 500 миллиграммов препарата. Сколько таблеток нужно дать?» Конечно, чтобы растянуть объяснение такой задачки на целых восемьдесят страниц – нужно иметь талант! Иногда при расчёте дозы нужно брать в расчёт вес пациента, но этой темы, чуть более сложной, в учебнике не было. Словом, потраченные сто долларов на этот учебник с массой картинок оказалось пустой тратой средств. А вот в «Стратегии», которую я не купил, подробно объяснялся принцип построения контрольных заданий. Все вопросы на медсестринском отделении, оказывается, построены на основе принципа, который назван первыми тремя буквами английского алфавита – ЭйБиСи. На букву Эй начинается английское слово со значением «дыхательные пути», значит в первую очередь нам нужно обратить внимание на то, чтобы дыхательные пути были открыты. На букву Би начинается слово со значением «дыхание». Значит после того как мы убедились, что дыхательные пути открыты, нужно обратить внимание на присутствие дыхания. С буквы Си начинается английское слово со значением «циркуляция». Значит, если дыхание присутствует, нужно убедиться, что сердце бьётся и качает кровь. Низкое давление попадает под категорию циркуляция, а боли в этом алгоритме нет вообще, значит правильный ответ – низкое давление. Преподаватель же не посчитала нужным дать такой ответ на мой вопрос. Если бы она так ответила, оценки у всей группы улучшились бы, потому что я задал этот вопрос на занятиях, и ответ слышали бы все. Но у всего преподавательского коллектива – общая цель: отчислить как можно больше студентов. Что касается принципа ЭйБиСи – так он безотказно работает только тогда, когда пациент перестаёт дышать и в палате полным ходом пытаются реанимировать больного. В такой ситуации действительно, в первую очередь нужно повернуть голову умирающего так, чтобы дыхательные пути были открыты. Хотя даже тут нельзя утверждать, что искусственное дыхание важнее непрямого массажа сердца, который обеспечивает искусственную циркуляцию, потому что одно без другого не имеет смысла. Но если человек дышит, разговаривает, угрозы жизни нет, тогда медики должны шире смотреть и подходить комплексно. Так думал я, поэтому тянул учёбу всего лишь на тройку.
На лекции сказали, что часто бывает несколько решений одной и той же проблемы и нужно всегда выбирать то решение, которое самое безопасное и менее всего инвазивное. Здравая мысль. А вот вопрос на проверку усвоения этого принципа: «Пациент получил инъекцию морфия и сказал медсестре, что хочет в туалет. Что должна сделать медсестра?» Она должна позаботиться о том, чтобы под влиянием наркотического препарата пациент не упал. Это понятно. А вот варианты ответов, из которых нужно было выбрать правильный:
1. Сказать пациенту: «Лежите, вам нельзя вставать». Вариант явно неправильный, отпадает.
2. Поставить пациенту мочевыводящий катетер. Слишком инвазивно, тоже отпадает, хотя, не поверите, но в реальной жизни в американских больницах именно так слишком часто решается данная проблема.
А вот два варианта, над которыми следует подумать: «Помочь встать в туалет; и последний вариант – подать в постель утку». Какой же идиотский вопрос. Жизнь в больнице не вращается исключительно вокруг инъекции морфия. В реальной жизни медсестра посмотрит на общее состояние больного и ей будет ясно, что делать. Но какой вариант ответа выбрать на контрольной? Согласно лекции, нужен самый безопасный вариант. «Если вставать, всегда можно упасть, а если подать в постель утку, возможность упасть исключается», – логично рассудил я. И опять неправильно. Правильный вариант – помочь встать и провести в туалет. Я пошёл в кабинет к преподавателю, чтобы она объяснила мне мои ошибки.
– Почему вариант с уткой неправильный? – спросил я.
– Вы прочитайте внимательно вопрос. Там указана фамилия пациента и перед фамилией стоит аббревиатура миссис.
(В английском языке разница между «мистер» и «миссис» при аббревиатурном написании всего в одной букве). На фамилию, которая как бы между прочим фигурировала в вопросе, я не обратил внимания, да и многие американцы тоже не обратили внимания. Какая разница? Это всего-навсего задача.
– Женщине будет очень неудобно пользоваться мужским гигиеническим приспособлением, – объяснила мне преподаватель с таким довольным видом, как будто выиграла у меня в покер, а затем с умным видом добавила:
– Это вопрос на критическое мышление.
Я что-то подумал про себя и уже приподнялся со стула, чтобы уйти. Но вижу, что рот у преподавателя не закрывается. Я опять сел, а преподаватель всё ещё продолжала пространно объяснять, что женщинам пользоваться уткой, предназначенной для мужчин, неудобно. Когда я начинал учёбу, думал, что здесь, как в России да и в Европе, лекции на медсестринском отделении читают врачи. Во втором семестре я уже начал догадываться, что не врачи меня учат, потому что доктора не могут быть настолько тупыми.
Что касается правильных ответов на контрольных, есть хорошая русская притча.
– Какую дозу лекарства вы дадите пациенту? – спросил преподаватель студента.
– Одну чайную ложку.
– Идите.
Студент выходит, через минуту заходит опять:
– Я дам две чайные ложки.
– Поздно. Пациент уже умер.
Действительно, если студент-медик не может правильно на экзамене ответить, какую нужно дать дозу, тогда есть большой риск, что и в реальной жизни его назначение будет неправильным. А теперь представьте себе такую ситуацию: медсестра зашла в палату, увидела перед собой женщину и дала ей предназначенную для мужчин утку, потому что в колледже она чего-то не выучила. Вы можете представить себе такой абсурд? Но американские преподаватели, очевидно, считают, что такой абсурд возможен. Что касается доз, так в медсестринских колледжах их не учат. По окончанию учёбы я не знал ни одной дозы! Какое лекарство и в какой дозе нужно дать, это знают медсёстры со стажем из опыта работы. Молодые медсёстры со студенческой скамьи этого не знают, из-за чего происходят серьёзные медицинские ошибки. Прибежит в больницу врач и напишет назначение как курица лапой. Медсестра не может разобрать почерк, а врача не спросишь, потому что он уже убежал и его нет. Опытная медсестра в таком случае правильно прочитает назначение, потому что и сама уже знает, какая должна быть доза. А начинающая медсестра не знает доз, потому что её этому просто не учили. Поэтому, если она неправильно прочитает каракули врача, она не сообразит, что, согласно её интерпретации почерка, доза получилась слишком большой или слишком маленькой. Например, бывали случаи, когда врач назначал 5 единиц инсулина ультракороткого действия, записывал сокращённо – 5U. При этом сокращение U было написано так, что медсестра принимала эту букву за ноль, и доза получалась в 10 раз больше. И начинающая медсестра, во-первых, не понимала, что 50 единиц такого инсулина – это слишком много, а во-вторых, не знала, что от такой дозы инсулина больной может впасть в гипогликемическую кому, то есть уровень сахара в крови станет критически низким. И виновата в этом случае только медсестра, а не врач, несмотря на то что использование сокращения U запрещено, и по правилам следует писать полностью – unit. Такие ошибки были довольно частыми, когда врачи писали назначения на бумаге. Сейчас все назначения вводятся в компьютер, поэтому медсёстрам больше не надо иметь дела с плохим почерком, но это всё равно не значит, что в назначениях нет ошибок.
Вот ещё один показательный вопрос: «Ученик плохо ведёт себя в школе. Его учительница спросила школьную медсестру, как оказать на ребёнка положительное влияние, чтобы он стал себя хорошо вести». Не помню варианты ответов, да это и неважно. Суть вопроса – промывка мозгов. Студентов систематически убеждают, что медсестра якобы занимает центральное место не только в больнице, но и в обществе. На самом деле никакая учительница не пойдёт за советом к медсестре, потому что у медсестры нет никаких особых знаний. Но студентов убеждают, что они якобы получают именно такие широкие и ценные знания. Медсестра – адвокат пациента. Помните это утверждение из первого семестра? Это из той же оперы. В реальной жизни абсолютно ни у кого не возникает ассоциаций между медсестрой и адвокатом. Это просто попытка на уровне теории урвать себе кое-что от престижа, которым обладают юристы. Зомбирование на веру в свою уникальность – оно было систематическим, начиная с первого дня.
Практика в больнице во втором семестре проходила хорошо, даже слишком хорошо, как это ясно теперь. Руководитель практики Шерли сама была новой, это был её первый семестр на преподавательской должности. Она не придиралась к моим планам по уходу за больными, так что не нужно было тратить время на бесконечное переписывание, как раньше. Она высоко оценивала мою любознательность и наблюдательность. Расскажу только, как я учился давать таблетки через зонд. Есть люди, у которых нарушена глотательная функция, и их кормят через трубку, которая выходит на животе и идёт прямо в желудок. Чтобы дать таблетки через зонд, их нужно сперва раскрошить, затем растворить в воде и ввести в желудок шприцом. Вот я размешиваю раскрошенные таблетки в воде… Руководитель практики посмотрела и сказала: «Так они будут растворяться очень долго. Я покажу, как это можно сделать быстрее». Тут она берёт почти кипящую воду из кофейника – и таблетки мигом растворяются. Затем добавляет холодной воды, и готово. У меня аж челюсть отвисла. Дело было в одной из самой престижной больниц Америки, в которой лечатся состоятельные люди со всего мира, включая Россию. Шерли уже много лет работала медсестрой в этой больнице, а в колледже только подрабатывала. «А высокая температура не нарушит свойств лекарств», – спросил я. Она пропустила мой вопрос мимо ушей. Сложилось впечатление, что она даже не поняла сути вопроса.
Второй семестр подходил к концу, в котором мы потеряли около 30% студентов. Я уже охотно верил американцам, что дальше будет только хуже, но в отличие от них, я хорошо понимал, что хуже будет оттого, что подножки станут более изощрёнными; американцы же наивно полагали, что труднее будет потому, что материал станет сложнее. А тем временем все газеты по-прежнему пестрили объявлениями: «Требуются медсёстры. Оплата высокая». Журналы самого разного уровня пестрили статьями с душераздирающими заголовками, типа: «Из-за острой нехватки медсестёр умирают пациенты». Больницы по всему миру искали средний медицинский персонал, в то время как в колледжах издевались над студентами-американцами, не давая им возможности честно заработать диплом. Даже в российских и украинских газетах тогда печатали приглашения на работу в США с краткой инструкцией. Чтобы попасть на работу в американскую больницу из Украины или России, во-первых, нужно было очень хорошо знать английский; во-вторых, за свой счёт нужно было съездить в Англию и сдать экзамен на лицензию, после чего можно было без проблем оформить рабочую визу. Воспользовался ли кто-то этим? Не думаю. Даже если и были тогда медсёстры с хорошим английским и деньгами на поездку в Англию, вряд ли они успешно сдали бы экзамен на лицензию, так как просто были бы шокированы тупостью вопросов, типичные примеры которых я уже привёл. Но сам факт, что такие объявления печатали в России без особой надежды на результат, говорит о том, какой острой была нехватка. А вот из Филиппин удалось привести большую группу медсестёр и трудоустроить их в самой большой и престижной больнице нашего города. По словам моей знакомой американки филиппинского происхождения, её землякам тогда платили 15 долларов в час. Американцам, которые успешно пережили издевательства в колледже, тогда платили в час 24 доллара в первый год работы. Что касается тех студентов, которые потерпели поражение и сошли с дистанции, многие из них продолжили учёбу на другом факультете, на котором готовят медсестёр с титулом LPN. Я уже писал, что медсёстры с этим титулом выполняют ту же работу, что и медсёстры с элитным титулом RN, но им платят значительно меньше на том основании, что образование у них на один семестр меньше. Кто-то, быть может, задался вопросом: «Кто такой непрактичный, что идёт учиться на факультет, после окончания которого всю жизнь недоплачивают? Теперь вы понимаете, кто туда идёт. Кстати, на факультете LPN так не заваливают, потому что их выпускники не являются конкурентами элитным медсёстрам.
Интересно также заметить, что медсёстры с титулом LPN появились в годы Второй мировой войны. Медсёстры тогда были призваны в армию, и им на смену в гражданских больницах пришли подготовленные по ускоренной программе медсёстры с новым на то время титулом. Ничего не скажешь, хитро придумали, как обеспечить страну средним медперсоналом в военное время, и в то же время сделать так, чтобы после войны новоиспечённые медсёстры не стали бы конкурентоспособными.
Мне стало ясно, что всю эту острую нехватку медсестёр искусственно организовали профессиональные медсестринские организации, которые имеют контроль над медсестринскими факультетами, с целью набить себе цену. И как только система здравоохранения позволяет каким-то медсёстрам держать в заложниках больницы страны?
И вот третий семестр. Местом практики я выбрал больницу, недалеко от дома. Решающим фактором при выборе места практики был тот факт, что руководителем практики опять будет преподаватель Шерли, та самая, которая была у меня и во втором семестре. Как я уже писал, она не придиралась к моим планам по уходу за больными и высоко ценила мои способности. Казалось, что третий семестр должен пойти как по маслу. Но как же я ошибался. С самого начала что-то пошло не так. Шерли начала придираться к моим планам по уходу, хотя они были написаны точно так же, как и в предыдущем семестре, при этом сама не могла ясно объяснить, чего она хочет. Можно ли ожидать толкового объяснения от человека, который растворяет таблетки в кипящей воде и даже не понимает вопроса о влиянии температуры на химические свойства лекарств? К тому же на новом месте практики я оказался в очень невыгодном положении по сравнению с другими студентами. Все остальные проходили практику в предыдущем семестре в этой больнице, только я и преподаватель Шерли были здесь новыми. А в каждой больнице – своя система документации, свои правила ведения так называемой медсестринской истории. Это был 2005 год, компьютеризация системы здравоохранения только начиналась. И вот в этой больнице уже были компьютеры, а в тех местах, где я проходил практику в предыдущие два семестра, вся документация велась на бумаге. Преподаватель Шерли сама не знала компьютерной системы, поэтому не учила, как её пользоваться. Да все остальные и не нуждались в её объяснениях, так как знали компьютерную программу с предыдущего семестра. Говорили, что преподаватель, которая была у них перед этим, всё толково объяснила и дала время на усвоение. Но у меня не было этих навыков, поэтому уходило много времени, чтобы разобраться, как документировать. А преподаватель Шерли вместо того, чтобы самой разобраться с системой и мне помочь, только придиралась, что я, дескать, медленно документирую. При этом даже сама не могла проверить документацию. Для этого она просила помощи других у студентов, чтобы они открыли ей компьютерную программу.
В конечном итоге меня отчислили с третьего семестра за медицинскую ошибку. Согласно назначению врача, я дал пациентке антибиотик. Через некоторое время появилось новое назначение врача на тот же самый антибиотик с пометкой «когда позвонят». Я показал это назначение Шерли, и она сказала, что эту дозу нужно дать сейчас. Она лично позвонила в аптеку с просьбой прислать препарат как можно раньше. И вот я дал это лекарство, и оказалось, что его давать было не нужно, что это вторая доза подряд. Приметка в назначении «когда позвонят» значит, что пациенту предстоит операция, и эту дозу нужно дать непосредственно перед операцией. А о конкретном времени должны позвонить из операционной. Всё очень просто, но как я мог тогда об этом знать? Знала ли об этом руководитель практики или специально подставила меня? После этой ошибки меня вызвали на разговор с некой миссис Каретти, которая, как оказалось, официально следила за профессиональным ростом Шерли. Она мне сообщила, что меня отчисляют из колледжа за медицинскую ошибку. Мне дали почитать бумаги, написанные Шерли, – несколько страниц пакостей. Например, она написала, что я нуждаюсь в «кормлении из ложки». Считается, что студент сам должен находить ответы на вопросы, а если слишком часто спрашивает о чём-то преподавателя, это называется «кормлением из ложки», и по правилам с такой формулировкой имеют право отчислить.
– Почему преподаватель сама не знала, когда нужно дать лекарство, – спросил я.
– Меня не интересует, знала это преподаватель или нет, но вы должны были это знать, потому что по закону отвечает только тот, кто лично дал неправильную дозу.
(Теперь я знаю, что это была наглая ложь)
– Почему преподаватель не знала, как пользоваться компьютерной программой, и не научила меня?
В ответ на это Каретти сказала, что в моей документации была какая-то неточность, поэтому они вообще могут меня выгнать с формулировкой неэтичное поведение за фальсификацию, а это значит – без права на восстановление. При этом намекнула, что если жаловаться не буду, тогда смогу восстановиться. Кому тут пожалуешься? Всех преподавателей и руководство факультета объединяет одно единственное стремление – отчислить как можно больше студентов, и в этом они видят смысл жизни. За полтора месяца до окончания семестра и мне пришлось сойти с дистанции. Что касается преподавателя, которая меня завалила, после моего отчисления она начала ходить по пятам за другим студентом, ища к чему придраться. Его спасло лишь то, что семестр близился к концу, и у Шерли просто не хватило времени его завалить. Для неё это был лишь второй семестр на преподавательской должности. В первом семестре она никого не трогала, просто присматривалась к новой работе. А во втором семестре от неё, очевидно, потребовали «профессионального» роста и предложили поучиться ставить двойки.
Осенью 2005 года я восстановился в колледже, но уже на обычном потоке. Так как последовательность семестров на обычном и ускоренном потоке не совпадает, весь материал третьего семестра стал для меня новым. Условие восстановления в колледже – пройти один дополнительный предмет. На первый взгляд, вполне логичное условие – потребовать подтянуться. Как вы думаете, как называется тот предмет, который нужно было дополнительно пройти? Химия, анатомия, микробиология, фармакология, внутренние болезни? Дополнительный семестр по любому из этих предметов был бы логичным. Но тот предмет, который требовалось пройти дополнительно, не имеет ничего общего с вышеперечисленными предметами, и название у него – экзотическое: «стратегия выживания в колледже». «Для того чтобы вам иметь успех в учёбе, нужно общаться с другими студентами, – говорил преподаватель по экзотическому предмету во вводной лекции. – А теперь выполним тренировочное упражнение. Повернитесь друг к другу и задайте своему соседу по парте три вопроса: Как тебя зовут? Где ты живёшь? Что ты сегодня ел на завтрак? Затем каждый перед всем классом скажет, что узнал о своём соседе». Как я ненавидел этот предмет. Ставить студентам подножки на каждом шагу, валить их на контрольных работах вопросами, которые выеденного яйца не стоят, и после этого ещё загонять изучать «стратегию выживания…»
Так как вопросы на экзаменах не на знание материала, а на способность мыслить «критически», были и упражнения на развитие этого самого «критического мышления». Студентам задавали вопрос, состоящий из букв, лишённых всякого смысла. И предлагалось выбрать вариант ответа, который состоял из такой же бессмыслицы. Вот как это выглядело. Вопрос: «Кули мули кишкибряки крили милу кукаряку?» Варианты ответов:
1. Кубэбэ семеле пере меле букалъ?
2. Курибяка закаляка сарикикои ириту.
И какой же «ответ» на поставленный «вопрос» является правильным? В конце первого варианта «ответа» стоит вопросительный знак, значит это тоже вопрос, а вопросом на вопрос на экзаменах не отвечают. Значит этот вариант неправильный. Во втором варианте ответа в первом наборе букв можно выделить вторую часть – бяка. Значит, речь идёт про «бяку». В третьем «слове» вопроса можно выделить первую его часть – «кишки». Критически поразмыслив, можно сделать вывод, что спрашивают про кишечник. Что находится в середине кишечника? Правильно, в нём находится «бяка». Вот так при помощи американского «критического мышления» мы нашли «правильный» ответ на поставленный «вопрос».
«Стратегию выживания» изучали параллельно с основным курсом, который был разбит на три сегмента: психиатрия, педиатрия и акушерство, – по пять недель на каждую дисциплину. Психиатрию вела гроза всех студентов миссис Буш. Каждый преподаватель, каждый семестр заваливал много студентов, но все боялись миссис Буш, потому что она заваливала больше всех. Чего только стоил её вопрос про куриную лапку. На лекции она сказала, что у людей с биполярным расстройством бывают периоды депрессии, когда они лежат и им ничего не хочется делать, и бывают периоды эйфории. В эти периоды они постоянно чем-то заняты, у них даже нет времени на еду и сон. И вот вопрос на контрольной: «Пациент с биполярным расстройством находится в психбольнице. У него состояние эйфории. Что ему нужно дать на обед?» Такие варианты ответов, как: макароны, суп, рис, – являются неправильными. Правильный ответ – куриная лапка. Ожидается, что студент, критически поразмыслив, сообразит, что у вечно чем-то занятого пациента в состоянии эйфории нет времени сидеть за столом и есть вилкой какие-то макароны, а вот куриную лапку он может держать в руке и грызть её на ходу, бегая с этой лапкой по отделению. Многие преподаватели за годы нахождения в стерильной академической среде забывают, как в реальности выглядит то, чему они учат. Так вот, миссис Буш не из таких: она все эти годы успешно совмещает преподавательскую работу с работой в психбольнице, то есть она прекрасно знает, что в психиатрических отделениях от пациентов требуют неукоснительного соблюдения распорядка дня и дисциплины. А это значит, что во время обеда никто психу не позволяет бегать по отделению с куриной лапкой в руке. Пациенты таких учреждений, как правило, соблюдают установленный порядок, а кто настолько возбуждён, что никак не может усидеть на месте, таким колят успокоительное или запирают в специальную комнату, пока не успокоится. И, зная всё это, миссис Буш всё равно с радостью заваливает студентов такими вопросами и гордится собой, что её боятся больше остальных преподавателей.
Как я уже говорил, вопросы на так называемое «критическое мышление» строятся по простенькому алгоритму ЭйБиСи, а значит, в первую очередь мы должны обращать внимание на «Эй», что значит airway, или дыхательные пути. Во время беготни по отделению с куриной лапкой легко подавиться, и, если кусок курятины застрянет в дыхательных путях, пациент может умереть. Виновата будет медсестра, которая позволила психу бегать с куриной лапкой. Так что тот ответ, который миссис Буш считает единственно правильным, на деле невереный во всех отношениях, но вот только студент никому ничего не докажет, если на контрольной не отметил вариант ответа с лапкой как правильный.
Вы, конечно, будете смеяться, но у неё тоже был на контрольной вопрос на проверку, как студенты освоили догму, согласно которой якобы нельзя задавать пациентам вопросы, которые начинаются со слова «почему». При этом никто и не думал повторять такие важные темы, как жидкостно-электролитный баланс в организме…
Пять недель практики в психиатрической больнице прошли спокойно. За такое короткое время трудно вникнуть в суть, но кое-что подметить удалось. Чтобы больным было веселее коротать больничные будни, в отделении были видеоигры. Меня буквально шокировала игра, в которой показывали отрывок из кинофильма, и нужно было угадать автора, по произведению которого этот фильм был снят. Вот показывают узкий железнодорожный мост. По нему, выбиваясь из последних сил, кто-то бежит. Нельзя свернуть ни вправо, ни влево. А сзади неумолимо приближается поезд… Это отрывок из фильма, снятому по призведению Стивена Кинга, заслуженно получившего прозвище «Король ужасов». Это, конечно, нужно было додуматься, чтобы пациентам психбольницы, многим из которых и без того по ночам снятся кошмары, показывать отрывки из фильмов ужасов. И ведь кто-то, имеющий соответствующее образование и лицензию, одобрил приобретение этой игры для пациентов с психическими расстройствами.
Один день был выделен на осмотр детского отделения. Ничего интересного из официальных источников, но вот комментарии однокурсницы запомнились. В Америке нет детских домов. Бездетные пары готовы ехать на край света, чтобы усыновить ребёнка. Что касается своих сирот, их почему-то не усыновляют, а воспитывают в фостерных семьях. Ребёнок находится в такой семье по договору. Семья имеет право в любой момент отказаться от ребёнка, равно как и ребёнок тоже может позвонить в социальную службу и сказать, что ему не нравится и потребовать, чтобы его дали в другую семью. И возникает вопрос: «Где находятся дети на переходном этапе, если нет детских домов?» А находятся они в психиатрических больницах. Но больница не может держать здорового ребёнка, поэтому всем сиротам лепят психиатрические диагнозы, а если есть такой диагноз, значит, есть и назначение врача на психотропные препараты. Моя однокурсница хорошо знает эту систему, так как сама принимала детей в свою семью на патронатное воспитание.
Кто-то, быть может, подумал, что сирот пичкают психотропными таблетками, потому что их некому пожалеть, некому за них заступиться. Это не так. Пятьдесят миллионов американцев сидят на антидепрессантах, у общества нет психологического барьера перед психотропными препаратами, поэтому они и своих родных детей со спокойной душой пичкают всякого рода успокоительными. По статистике в 2011 году у 6,4 миллиона детей был диагноз СДВГ, то есть синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 80% этих детей регулярно принимали препарат Риталин или подобные ему препараты, сделанные на основе амфетамина. Не трудно посчитать, что 80% – это пять миллионов сто двадцать тысяч детей. Если полиция кого-то задержит с этим препаратом, посадят по статье за незаконное хранение наркотиков. Поэтому не случайно на жаргоне наркоторговцев препарат Риталин называется «детский кокаин». Побочные эффекты лекарств этой группы – потеря аппетита и веса, бессонница, потеря интереса к социальной жизни, нервный тик, задержка в росте. Но американцы без проблем дают эти таблетки своим детям, так как, во-первых, безгранично доверяют врачам, которые выписывают рецепты, а во-вторых, не понимают, что вышеперечисленные побочные эффекты свидетельствуют о повреждении нервной системы. Если у ребёнка возникает бессонница, врач без проблем выпишет рецепт ещё и на снотворное.
День в детском психиатрическом отделении подходил к концу, когда привезли новую 16-летнюю пациентку. Она что-то натворила в школе, директор вызвал скорую, и школьницу привезли прямо в психбольницу. Работники больницы мне сказали, что эту девочку они хорошо знают, так как она сюда часто попадает. «Её усыновили в России, когда ей было шесть лет. В детдоме её били, и поэтому у неё сейчас проблемы с психикой», – сказали мне. Мне трудно судить, не зная всех фактов, но почему-то мне кажется, что нельзя все психические проблемы подростка списывать на то, что в детстве, более десяти лет назад, кто-то её бил. Но даже если это и так, вряд ли ей поможет то, что в больнице её напичкают успокоительными в дополнение к тому, что она и так ежедневно их принимает.
Самым лёгким сегментом третьего семестра – это пятинедельный курс педиатрии, потому что преподаватель по этому предмету миссис Армстронг отличается от остальных тем, что действительно хорошо учила студентов, давала знания и не старалась никого завалить. Но она буквально одна такая, исключение из правил. А вот акушерство – это самый кошмарный пятинедельный сегмент. Ничего сложного там нет, но мне не повезло: я попал на практику в подгруппу к некой миссис Сигель, которая славится тем, что всей душой ненавидит студентов-мужчин. К мужчинам отношение вообще предвзятое. Дело в том, что исторически зарплата у медсестёр всегда была маленькой, и по этой причине мужчины не шли учиться на эту специальность. Но медсёстры под флагом феминизма боролись за свои права, и когда добились повышения зарплаты, мужчины валом хлынули в эту профессию, но их встретили в штыки, мол, пришли на всё готовое. Миссис Сигель, в отличие от остальных, даже не скрывала свое предвзятого отношения и издевалась, как могла, над теми мужчинами, которые попадали в её группу. Постоянно ходила по пятам, ища к чему придраться. Но за два занятия в неделю много не накопаешь. Придраться было решительно не к чему, поэтому зачёт мне поставила, но с одним замечанием: написала, что я, мол, не улыбаюсь пациенткам, поэтому с целью помочь мне исправиться, официально рекомендовала прикрепить меня в последнем семестре на практике не к преподавателю, который работает на полставки, а к преподавателю, которая является членом кафедры, а значит, по идее, может лучше научить этикету общения с пациентами.
Нужно особо отметить, что этот семестр мы закончили без потерь, то есть никого не отчислили. Традиционно с предпоследнего семестра отчисляют многих. Были случаи, что с третьего семестра отчисляли всю группу. Но на этот раз прошли все. Это может показаться чудом, хотя на самом деле всё объяснимо: если в предыдущем полугодии было слишком много «неуспевающих», тогда на следующий семестр для компенсации никому двоек не ставят.
И вот наступил последний четвертый семестр. Первая тема – кардиология. Лекции на эту тему читала миссис Тамошевский, которая подлейшим образом на первой же контрольной завалила больше половины группы. «Тема трудная, но вы не переживайте, я вам помогу», – заверяла она. И действительно, «помогла»: перед контрольной продиктовала целый список вопросов, на которые нужно обратить особое внимание, чтобы получить хорошую оценку. Все сконцентрировали внимание на эти вопросы, но в результате получили двойки: ни одного из этих вопросов не было на контрольной! Я же получил четвёрку, так как, это было для меня повторение. Тамошевский также была руководителем практики в моей подгруппе. В этой роли она славилась тем, что каждый семестр ставила за практику двойку одному студенту. Через несколько дней после начала семестра ко мне подошла одна студентка и сказала, что случайно услышала разговор Тамошевский и Сигель обо мне, и Тамошевский сказала: «Я его выполю, как сорняк». Что я мог сделать? Всё руководство кафедры на их стороне, а студентка, которая это слышала, сама перепугана и не знает, пройдёт она последний семестр или нет, поэтому ожидать, что она согласиться официально рассказать об услышанном, не приходилось. Я просто решил быть предельно осторожным. Представьте себе нервную нагрузку, когда знаешь, что любой шаг может перечеркнуть двухлетнюю работу. Один раз нужно было дать таблетки какому-то деду. Таблеток было штук десять. Пациент глотать их целиком не хотел и только твердил: «Поломай, поламай.» Но ведь в инструкции не написано, что их можно ломать, линии, по которой ломают таблетки, тоже не было, а это значит, преподаватель может придраться. Оглядываясь, я всё же разломил каждую таблетку на несколько кусочков и только тогда пациент их проглотил. Пронесло. Но нельзя ожидать, что и дальше всё будет складываться идеально. И вот мне дали задание взять кровь из вены, первый раз в жизни. Пациентка оказалась очень впечатлительной. Я ввёл иголку в вену – она вскрикнула. И хотя больная кричала каждый раз, даже тогда, когда её кололи флеботомисты с опытом работы, это не помешало моему преподавателю составить на меня бумагу, в которой написала, что пациентка вскрикнула оттого, что я якобы слишком резко ввёл иглу. Она направила меня на дополнительное занятие в лабораторию – практиковаться брать кровь. И вот я демонстрирую на манекене, как нужно вводить иголку. Начальница лаборатории миссис Сандаски наблюдает за каждым моим движением. Придраться не к чему.
– Вакутейнер (устройство для взятия крови) выбрасываем в специальный контейнер для острых отходов, – завершил я ответ.
– Нет, неправильно, – резко сказала миссис Сандаски. – От вакутейнера нужно отсоединить иголку и выбросить её в контейнер для острых отходов. А сам вакутейнер выбросить в обычный мусорник. Больницы и так платят большие деньги за утилизацию этих контейнеров, поэтому место в них нужно экономить.
У меня отвисла челюсть. Это уже слишком. Во всех учебниках чёрным по белому ясно написано, что ни от вакутейнеров, ни от шприцов, отсоединять иголки нельзя. Это нарушение техники безопасности. Отсоединяя использованную иголку, можно уколоться и заразиться СПИДом или гепатитом. Но что я мог сказать, если она имела полное право поставить незачёт, и меня бы выгнали из колледжа? Я промолчал. Сандаски, поиздевавшись, поставила зачёт. Но это не спасло. За шесть недель до окончания колледжа руководитель практики Томошевский поставила мне двойку за неуспеваемость и меня отчислили из колледжа. На практике в больнице я не сделал ни одной ошибки, но она всё равно написала про меня несколько страниц пакостей. Например, написала, что перед этим какая-то медсестра (имя указано не было) якобы к ней подошла и сказала, что я якобы грубо обращаюсь с больными. Но пять недель назад она мне ничего об этом не сказала. Также она написала, что и сама наблюдала за мной подобное. Конечно, не было никакой конкретики: когда она это наблюдала и в чём именно проявилась эта грубость. Я решил жаловаться, что меня дискриминируют по национальному признаку. Дело в том, что все придирки сопровождались вопросами, типа: «Из какой Вы страны приехали и когда поедете обратно?» Также спрашивала, на каком языке я разговариваю дома и настоятельно советовала мне переходить дома на английский. Однажды я разговаривал на перерыве с однокурсницей Олей С. по-русски. Она подошла к нам и при всех с отвращением сказала: «Сделайте себе одолжение, говорите по-английски». После того как она поставила мне двойку, я пошёл к ней в офис, спросил, почему мне нельзя дома и на перерыве разговаривать по-русски, и она всё это повторила на диктофон.
В нашей группе учились две студентки из Сербии – мать и дочь. Они тоже поддержали идею пожаловаться на дискриминацию и сказали, что как только окончат учёбу, сами напишут заявление. Раз в две недели нужно было демонстрировать навыки в лаборатории на манекенах. Мать и дочь готовились вместе. Сперва шла отвечать дочь и без проблем получала зачёт, потому что говорила без акцента. Затем шла мать, отвечала точно так же, как перед этим отвечала её дочь, и к ней всегда придирались, потому что говорила с акцентом.
В своей жалобе, адресованной в офис, который занимается профилактикой дискриминации, я написал, что преподаватель меня оклеветала, обвинивши меня в тех ошибках, которые я не совершал, особо подчеркнувши, что ни одно из её утверждений не было подкреплено фактами. Также описал, что все придирки сопровождались комментариями по поводу национальности. К жалобе приложил кассету, на которую она наговорила много лишнего. Мне выдали бумагу, в которой было сказано, что жалоба принята на рассмотрение и что я получу официальный ответ… в течение ста восьмидесяти дней! Также сказали, что пока они не разберутся, я не имею права вновь приступить к занятиям. Также в бумаге было сказано, что юрист по моему требованию встретится со всеми свидетелями, но я не имею право спрашивать свидетелей, что они сказали.
У всех остальных учёба тем временем продолжалась. Студенты рассказывали, что в тот день, в который преподаватель Тамошевский должна была идти на разговор, она выглядела полностью растерянной и панически каждую минуту повторяла: «Зачем я только выгнала этого русского…» Подлые люди всегда трусливы. Семестр закончился. Больше половины группы так и не набрали заветных семидесяти пяти процентов, а значит тоже остались без дипломов. Меня же преследовали на практических занятиях, потому что оценки по теории у меня были хорошие, а давать диплом «этому русскому» они никак не хотели. Кто-то из студентов позвонил на местное телевидение, и в эфир вышел сюжет о том, что в нашем колледже подозрительно много студентов получают двойки. Колледжу, конечно, это было неприятно, но это не значит, что студентам исправили незаслуженные двойки на вожделенные тройки.
Ответа на мою жалобу всё не было и не было. Он пришёл точно на сто восьмидесятый день. В нём было сказано, что фактов дискриминации обнаружено не было. Я позвонил юристу, который подписал ответ, и поинтересовался, или он слушал кассету. Оказалось, что не слушал, мол, с юридической точки зрения, слушать кассету не так просто, как кажется, – ответил он мне. Спросил, как насчёт того, что ни одно негативное утверждение преподавателя обо мне, которые она изложила письменно, не было подтверждено конкретными фактами. Юрист ответил, что если дискриминации по национальному признаку не было, то всё остальное его не касается. Встречался ли он с той медсестрой, которая якобы сообщила моему преподавателю, что я грубо обращаюсь с пациентами? Тоже не встречался, потому что в этом эпизоде национальный вопрос не поднимался. Он встречался с Олей С., она ему рассказала, что Тамошевский не к месту поднимала национальный вопрос в грубой форме, но в официальном ответе было написано, что свидетель Оля С. якобы не подтвердила изложенных мною фактов.
Был ли у меня вообще шанс закончить колледж? Сперва начинающий преподаватель Шерли меня завалила за ошибку, которую сделала сама, а мисс Каретти, которая официально была приставлена к ней в роли наставницы, вместо того, чтобы во всём разобраться, мне угрожала, что я не смогу вернуться на программу, если начну жаловаться. Затем Миссис Сигель написала, что я, мол, не улыбаюсь и дала официальную рекомендацию, согласно которой я попал именно в группу Тамошевский. Явно чувствуется сговор, но я и не заикался, ведь не докажешь. И вот этот юрист, который рассматривал мою жалобу. Мог ведь посоветовать подать параллельно жалобу и в другой офис, который рассмотрел бы действия преподавателя исключительно с профессиональной точки зрения. Наоборот, тянул с ответом целых сто восемьдесят дней, и подавать жалобу в другой офис было уже поздно.
В официальном ответе также было сказано, что я имею право подать апелляцию, которую будут разбираться юристы, не зависящие от колледжа. Я подал апелляцию, и получил ответ, что её разберут в течение ста восьмидесяти дней. Опять пошли месяцы ожидания… Дней через сто семьдесят мне позвонили. Начали расспрашивать, что случилось. В жалобе было всё подробно описано, но они явно её не читали. Я сказал, что юрист в колледже проигнорировал факты, которые я ему сообщил. Мне сказали, что их роль заключается не в том, чтобы заново начать расследование, а в том, чтобы проверить или все формальности при первоначальном расследовании были соблюдены. Конечно, они были соблюдены, так что апелляцию я тоже проиграл. При этом сообщили, что я могу пожаловаться в самую высшую инстанцию, в Вашингтон. Но я уже не стал тратить время ещё на одну апелляцию. Хотел в суд подать. Но оказалось, что напрямую подать заявление нельзя, нужно обязательно нанимать адвоката, а он берёт минимум сто долларов в час; от подачи заявления до суда пройдет года два и все эти годы у моего юриста будет работы на много-много часов. А моя почасовая зарплата тогда была в десять раз меньше того, что берёт за один час юрист, да и работал я на полставки. Суд в США не защищает простого человека от системы.