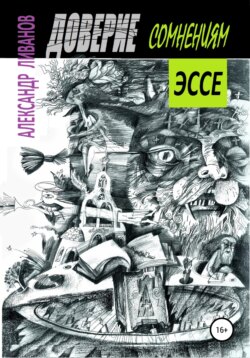Читать книгу Доверие сомнениям - Александр Карпович Ливанов - Страница 4
Общение
Петух
ОглавлениеИ снова они молча смотрели друг на друга. Бледные, злые, полные ярости и взаимной ненависти… А ведь еще вчера они были любящими, весь мир, несмотря ни на что, казался сотворенным для их любви… Он молчал и думал: «А еще сказано – любовь сильнее смерти… Сказавший это, конечно, смерти в глаза не смотрел!.. Так, – книжность, метафора, красивость… А тут смерть рядом – и вот сразу от любви ничего не осталось. Одно упоминание, тоска… Вот она, женщина, олицетворение любви… А вот и смерть – стоит только открыть дверь, шагнуть через площадь. Она всюду, в этом мглистом зимнем утре, она за окнами домов, за каждым углом. Мир алкает смерть, полон выстрелами, как прежняя деревня собачьим лаем… Он выйдет отсюда – короткая очередь из окна, или даже единственный выстрел – он даже в этом не успеет разобраться, упадет, лужица крови – и все. Для этого он родился, жил, надеялся? Война – умопомрачение? Почему он должен потакать? Он хочет жить!.. Разве желание жить не естественное, разве желание жить может кем-то быть судимым как преступление?.. Законы войны безумны, как и сама война…».
В детстве какая-то старуха попросила его отрубить петуху голову. Она улыбалась черным, гнилозубым, страшным ртом. Точно паутина от логова паука, морщины расходились от ее рта. Ведь и она играла в женщину, и она поощряла в нем мужчину! Старое и страшное плотоядное животное. Он взял из ее рук топор, не потому что она пробудила в нем мужественность. Мальчишка, он тогда не ведал о жестокости в мире. А она спокойно обагрила кровью его детскую душу. Впрочем, старуха ни о чем не думала, жадная на жизнь тварь, кроме курятины. Обезглавленный, прыгающий, кидающийся судорожно по сторонам, брызгающий кровью петух, поразил вдруг его детское воображение. Страшная агония жизни и образ смерти… До сих пор он помнит эту брызгающую кровью перерубленную шею. Кровь – и образ смерти. Раскольников убивает таким топором – старуху. Он убил для нее петуха. Здесь убивают людей. «Убийство всегда убийство»… О, как задешевилась в мире человеческая жизнь!
– Ты должен идти! Не теряй времени! Они должны знать, что ты не выстоял под пыткой… Во имя нашей любви – иди! Иначе – убью и тебя, и себя! Или, нет возьми вот револьвер… Начни с меня. А там сам решай!.. Возьми!.. Зачем ты вернулся, ты привел на хвосте карателей!..
– Если бы ты любила меня, ты бы не посылала меня на бесцельную и верную смерть… Их не спасу, а сам погибну… Зачем? Да и выдал ли в бреду?.. Я вернулся к тебе, а ты меня опять на смерть посылаешь…
«Оказывается, я не знал ее… Фанатичность их ограниченности!» Вон даже в церквах по округе – почти не видел он стариков. Одни старухи вокруг одуревшего батюшки, у которого на уме лишь – выжить, уцелеть. Старухи, как куры! Спроси ее – ничего не ведает ни из священного писания, ни одного постулата апостольского! Это все старики, бывало, умствовали – а вот в церкви их нет… Или женщина, душа ее – что зеркало? Все отражает, и ничего своего? Единственная тайна – отражения? Ему казалось он знает эту женщину, всю до последней складочки ее юного и горячего тела… Револьвер на столе. Может, заставить ее вместе выбраться отсюда – бежать, жить! И любить ее, единственную во всем мире? Их не спасти – зачем погибать?..».
– Ступай! Докажи, что ты мужчина! Я люблю тебя и буду тебя любить! Ведь ты меня создал, кем я была без тебя?.. Ты мой Пигмалион. Ступай же! Или перед страхом – все убеждения стали призраками?
«Господи, сколько чепухи втолкнул в нее… Пигмалион! Как кстати… Может, за эту декламацию – долг, мужество, убеждение – и платить мне теперь?..». Почему она берет на себя право – посылать его на смерть? Убить его? Он не герой, не каждому дано… В убеждениях есть смысл, пока ты жив… Затем это – «докажи, что ты мужчина»… Женщины и начальство – ловко устраиваются в жизни! И вот ты должен работать, убивать, погибать – они старшие, они судят, они милуют… В рассудочности и вкрадчивости, терпеливости и выжидании – нечто общее между женщинами и начальниками! Да еще в их чувстве верха, в непреложном эгоизме, что ли… Этот верх их он всегда ненавидел…
Она надела на себя пояс с револьвером: по-мужски, одним рывком, захлестнула пряжку, не глядя, на ощупь, привычно заправила оба шпенька в дырочки – одернула телогрейку под ремнем. Даже эта грубая телогрейка не скрыла ее женственности, он почувствовал, как сердце в груди зачастило, и привлек ее к себе. Одна лишь реальность есть в мире – она. Ее теплые губы, мягкие волосы, небо в ее глазах… Любя, он никогда не закрывал глаза – чтоб видеть это небо…
Она резко оттолкнула его. Вот она, «любовь сильнее смерти»!.. Красноречивая поэзия – и немая физиология… «Угрюмый, тусклый угль желанья». Любовь, жизнь, смерть, война… Все женского рода.
А она? Неужели – в ней, в женщине – нравственный долг выше?..
– Ладно! Сама пойду вместо тебя! Прячься в этом крысином углу… Только знай: не одна я… Во мне – ты, твой!.. Мы погибнем, а ты живи!
То ли слезы, то ли спазмы помешали ей договорить начатое. Она рванула набухшую дверь, кем-то до войны обитую снаружи войлоком. Забота о тепле и уюте, которых давно уже не осталось в мире – как она нелепа на войне! Она упраздняет все человеческое. Может, самое страшное в том, что даже умереть тебе не дано по собственному выбору. И в этом ты неволен, тебе приказано и предписано – как ты имеешь право умереть. «На всех стихиях человек – тиран, предатель или узник». А он – только смертник … Либо герой – либо предатель? Какие чрезвычайные категории… В сущности – издевательство… Неужели человек не может на свое усмотрение распорядиться собой? «Законы войны»? Ведь сама война – беззаконие… Что-то есть выше жизни и смерти?
Он опомнился и кинулся к окну. Она была уже у калитки. Открыла, толкая рукой и помогая себе коленкой, вышла на улицу, на ходу поправляя платок и спеша мелким, из-за юбки, шагом. Так и ни разу не надела брюк!.. Женщина! Ничего он так и не понял… Лев Толстой и тот не понял.
Ни разу она не оглянулась, точно его и не было на свете. Женщина, которую он любил больше жизни. Полно, неужели – больше жизни? Вот когда предстала вся очевидность и безответственность слов!..
Она идет, будто в доброе мирное время спешит в парикмахерскую или в магазин, идет и не оборачивается. Что это – мужество? Отсутствие воображения? И вообще, кто это выдумал, что женщины трусихи? Не сами ли они внушают это мужчине, чтоб он их защищал? Падают в обморок, визжат при виде мышонка… Сколько раз он видел в перестрелках – мужчины дрогнут, пятятся. А женщина лежит себе, шпарит из автомата, даже деревом не прикроется. Правда, глаза закрывает, да еще голову отвертывает и визжит… Все же и здесь – хочет оставаться женщиной, показывает свою неумелость в мужском деле?..
В отряде, в боях и перестрелках, он привык по спине впередиидущего, почти как по самому лицу, узнавать о его состоянии, об опасности и страхе. По ее спине он ничего не мог определить! Да и почему она идет серединой улицы? Неужели так ничему не научилась в отряде? Ведь надо было держаться одной стороны, вдоль стен – зачем себя выставляет на выстрел? Ему показывает – ей теперь все равно.
Словно кто-то в нем заговорил – он услышал вдруг ее слова перед уходом: «Я не одна… Во мне – твой…». Странно, они только сейчас дошли до его сознания с полной ясностью. Или в самом деле – подлец он?.. И еще одно – не самое ли тяжелое – испытание для него?..
Вышибленная ударом ноги дверь взвизгнула по проржавленных петлях, стукнулась о какую-то кадушку, тут же, точно злясь, метнулась обратно, плашмя прошлась по его лицу. На миг явственней запахло затхлой сыростью, прогорклой капустой, посконной гнилью – чем-то забытым, древним, омерзительным. Неужели это запахи жизни? Жалкий быт, ароматы нищеты это, а не – жизнь… Война и бытом ее унижает…
Он не помнил, как метнулся через двор, как настиг ее у начала дороги с прибитой и сохлой травой предзимья по сторонам. Раздалась короткая очередь – он рванул ее, прикрыл ее собой на ухабистой колее. Она что-то пыталась ему сказать, протестующе ворочалось под ним ее округлое в ватнике тело, торчком ставшая кобура с револьвером давила в грудь. Тогда он приник губами к ее губам. Он обрадовался, что сразу нашел ее губы, что она вся обмякла, уже не билась под ним, отдавшись власти поцелуя.
– Э-эх – дурочка ты… Любимая… Ползи до овражка – добежишь до города… Все объяснишь… И живи – живи! Оба живите!..
Когда кустарник пологого овражка скрыл ее, он, почти не пригибаясь, побежал к дому, где в засаде, может, им же выданной, были наши. Ему теперь было стыдно за свою минутную слабость, за потерянное время. Но почему не стреляют? Может свои уже ушли, не стали ждать пока каратели оцепят их дом, пока их станут из него выкуривать огнем? Может, его предупреждения и объяснения – все запоздало?.. Э-эх, хуже нет, как погибнуть нелепо, бессмысленно!
Он бежал и видел ее глаза, ее смутно золотистые волосы под платком. Глаза темной синевы, как осеннее небо, розовые припухлости под глазами… И почему он подумал, что погибнет зря? За полное счастье – и полной ценой!.. Ее губы. Они не рассуждали! Это – счастье…
Пулеметная очередь срезала его на бегу. Стреляли из слухового окна последнего у дороги дома. У него еще нашлись силы, чтоб приподнять голову и увидеть судорожно пляшущее, острое пламя, чуть поодаль от ствола. Чья-то рука мелькнула у сошек. Впрочем, может, показалось…
Из густеющей тьмы, коротким виденьем, метнулся темно-красный, как пламя, петух с перерубленной шеей и судорожно кидающийся по сторонам, орошая кровью траву – точно свершающий страшный ритуальный танец смерти…