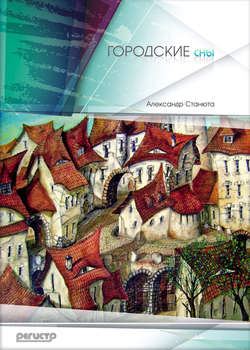Читать книгу Городские сны (сборник) - Александр Станюта - Страница 32
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Городские сны
Глава девятая
Певица и кавалерийский капитан
II
ОглавлениеОн слушал этот голос уже много раз, не думая о том, что это голос матери. Он его слышал, но не вспоминал о ней, потому что вспоминать можно только то, что однажды запомнилось.
Здесь, в доме со ставнями на окнах, с заткнутыми зимой ватой отверстиями в стенах для железных засовов, что вечерами подавали с улицы внутрь, вдевая в петли на концах длинные гвозди или половинки ножниц, – здесь за три года оккупации Сережа часто слышал: Лёля.
Он понимал, что это мать, но не представлял ее себе, когда упоминалось это имя. Его не было с чем соединять. За ним не слышалось того, что бы на это «Лёля» как-то откликнулось.
Был только этот голос с пластинки и знание, пришедшее от взрослых: мама поет.
И мама пела. Получалось, что пела одному ему. Бабушка хлопотала в кухне с вилами и чугунами у плиты, гремела ведрами в промерзших сенцах, где лежали дрова. А старшая сестра была где-то на городских работах, она за это получала в конце дня с немецкой кухни на Московской улице черпак гороховой похлебки с хлебной пайкой. И где-то на своей работе был отец.
Где была тетя Надя, пока не умерла в холодном, черном после ослепительного снега марте с грузными воронами в голых березах за окном?.. И ей было не холодно лежать в платье, в легком платке на плечах с широкой церковной лентой из бумаги на лбу, когда открытый гроб стоял у дома на двух табуретах. Его удалось вынести только через окно, куда отцовский Огонек просовывал когда-то длинную голову со стригущими острыми ушами, белым пятном на лбу, после чего отец со своим отцом выходили и садились курить на крыльце, чтобы Огонек их видел…
А в день похорон они уже без деда стояли под окном у открытого гроба: бабушка в толстом платке, с заплаканным темным лицом; Тама, двоюродная сестра Сережи – дочь тети Нади – с лицом припухлым и немолодым от слез; отец без шапки, в незастегнутом зимнем пальто, в белой рубашке с галстуком, со всегдашним своим тонким темно-зеленым кашне со светлыми полосками на концах.
Над головой тети Нади, бывшей продавщицы в минском довоенном ГУМе, стоял в тот темно-серый день ее муж, сапожник.
Он жил в их тесной половине старого бревенчатого дома как-то незаметно, тихо. Глухими зимними днями сидел на низком табурете в фартуке и, с головой уйдя в работу, ловко и точно постукивал молотком с плоской круглой шляпкой по деревянным желтоватым гвоздям, тэксикам, что в два или три тесных ряда шли по краям коричневой, с глянцевым отливом, подошвы. Расплюснутые верхние концы этих тэксиков затем снимались шершавым рашпилем, ровнялись с поверхностью подошвы, немного стесывая и ее.
Глухие удары молотка по сапогу или ботинку, плотно сидящему на металлической сапожной лапе, запах нагретого черного вара, гладкие легкие колодки с клиньями, широкие, острые как бритвы ножи, шило – прямое и кривое, загнутое клювом, и еще одно, тоже загнутое, но с отверстием на кончике, им сапоги тачались суровой ниткой, дратвой, натертой воском…
Все это было целым интересным миром в угловой и светлой комнате, когда работал там свою сапожную работу дядя Шура. Все это пахло чем-то уютно-деловым, чуть ли не вкусным – кожей, хромом, клеем – и все это осталось навсегда там, куда все же можно мысленно заглянуть, чтоб вновь увидеть это совсем близко, рядом.
В той самой комнатушке на нижней полке этажерки из тонких деревянных жердочек покоился тяжелый черный чемоданчик патефона с выдвижной коробочкой иголок и ручкой для завода пружины, похожей на игрушечный автомобильный ключ.
На патефоне аккуратно была сложена стопка пластинок в бумажных конвертах с надписями СССР, Апрелевский завод.
Это оттуда сначала в юность, во двор с динамиком на подоконнике, в первые, скованные от стеснительности танцы в вечерней полутьме, у белой волейбольной сетки, а позже в семейную жизнь, в домашние застолья, это оттуда, из той комнатки на улице Толстого так долго потом так отчетливо неслись наивные, сентиментальные и пошловатые, ложно-значительные слова, голоса и мелодии. Утесов, Вадим Козин, Изабелла Юрьева, Петр Лещенко и Аркадий Погодин и Тамара Церетели, Шульженко и Вертинский – Портрет и Руки, Саша, В парке Чаир, Белая ночь и Маленькая балерина, Чубчик и Дымок от папиросы…
И среди этих голосов один особенный и не такой известный, звенящий и будто натянутый, как серебристая фольга. Дав ему зазвучать однажды для Сережи, сестра сказала: «Это твоя мама». И женщина, которую так назвали, после короткой музыки не то чтобы пропела, а скорей проговорила, красиво продлевая странные слова:
Не ожидай, не ожидай признанья,
Уходит ночь, и виден проблеск дня,
Не вспоминай, не замедляй прощанья,
Костер угас, и больше нет огня.
Потом, один, слушая это раз за разом, он пробовал как-то увидеть или придумать мать вместе с отцом, их жизнь, когда его, их сына, еще не было. И ничего из этого не получалось. Голос и музыка, вся песня нравились – но больше ничего не возникало.
Вата с сухими цветами бессмертника между стекол в окне сливалась с белыми снежными шапками на заборе, с сугробами вдоль пустынной улицы. Там иногда проезжали грузовики, глухо лязгая цепями, надетыми на задние колеса, чтобы не пробуксовывать после остановки. Все за окном быстро становилось синеватым, в комнате темнело, и он рассматривал, пока еще можно было обойтись без лампы, книги на этажерке.
Десятилетия спустя, немолодой уже, он будет повторять те минуты мысленно, как видеокассету. Может, в тех книгах с этажерки что-то позволяло ему уже тогда, в далеком детстве во время войны как-то почувствовать непонятную, загадочную для него жизнь матери с отцом, когда они начинали ее?..
Уже после войны, бывая после школы в том бабушкином доме, он снова иногда рассматривал на этажерке книги и удивлялся, даже слегка робел от их названий, таких далеких от всего, чем он тогда жил. Читал с обложек незнакомые слова: Некрасов – Мертвое озеро, Виктор Гюго – 93-й год, Салтыков-Щедрин – Помпадуры и помпадурши, Дос Пассос – 42-я параллель, Джованьоли – Спартак, Государственная фармакопея, Анатомия человека…
Кажется, были еще там журналы, без фотографий, без рисунков, как книжки, только широкие и тонкие, в твердых обложках и с библиотечными штампами «Интернациональная литература». И он читал названия внутри. «Улисс» какой-то, Джойс, – журнал № 4 за 1936-й год. И чьи-то аккуратные подчеркивания в строчках, тонкие, ровные, остро заточенным карандашом, наверное, чтобы потом возвратиться к этим местам, так они понравились. А кто, когда и где это читал, подчеркивал, что с этим человеком стало?
Потом – «Фиеста», фамилию писателя удалось разобрать не сразу. Зато спустя почти полвека, в иной жизни, мать, придя как-то к нему с купленной книгой, совсем легко проговорила это заморское, вихляющее, будто длинная рыба, имя:
– Купила вот Хемингуэя, а «Фиесты» нету здесь…
И он тогда подумал: как она хорошо помнит эту «Фиесту»; конечно, это же ее жизнь в то время, до войны, начало ее выступлений и гастролей, знакомство с отцом, кавалерийским офицером… Пришла тогда с друзьями в полк: «Хотим учиться вольтижировке». И он ее учил садиться в седло, подавал стремя, крепко, надежно держал за щиколотку теплыми сильными руками, подталкивая вверх.
Несколько лет назад, на станции в Ждановичах, после двух дней на даче сына, слушая соловьев в закатном солнце и глядя на рыжего жеребца под деревом, она вдруг что-то словно увидела перед собой, сказав без всякой связи с предыдущими словами:
– Ну, ты подумай только, было точно как в романе каком-нибудь: она – певица, он – кавалерийский офицер…
Сын сразу понял все и тут же среагировал, стараясь подхватить, чтобы она продолжила, даже напомнил ей о ярко-рыжем Огоньке отца. Но помощь была не нужна, она сама удерживала ленту прожитого времени перед глазами:
– Сначала был не Огонек, а серая, в яблоках кобыла. Она взбесилась. Он ее пристрелил. Выстрелил из нагана в ухо.
И сын спросил ее, всю ту же, молодую в ту минуту для самой себя, но все-таки уже другую с виду, старую женщину, что больше всего нравилось ей, молодой, в отце?
Она ответила, все так же глядя куда-то перед собой, чуть сощурившись, видя то, чего ему не разглядеть:
– Очень мужское, сильное начало… Но из-за этого и разошлись. Резкость и ярость. Бешеная ревность. Или, мол, твои концерты и вся эта богема – или я. Не разрешал мне петь и выступать два года. Приду тайком утром на чью-нибудь репетицию, сижу одна в темном зале и реву. Вместо гастролей летом – его военный лагерь, дом в лесу и волейбольная площадка для офицерских жен… В ревности был буен, страшен. Бросил в меня гильзу от снаряда – был дома такой дурацкий сувенир, – а ты в пеленках на руках, чуть увернулась. И больше не смогла, отрезалось что-то внутри. Он ушел к матери, бабушке твоей, туда, ты знаешь, на Толстого…
Он знал.
Он помнил наизусть тот дом из почерневших бревен со скобой в стене для привязи красавца Огонька.
Мать продолжала:
– А между прочим, это был твой первый дом. Я тебя в Вязьме родила, когда отца отправили туда на поселение по решению военного суда, после его буйства в Борисове. Это же надо: выпив, приказал своим солдатам на постах бить проходивших мимо евреев. А как нарочно, была тогда кампания по всей стране – строго наказывать за антисемитизм. Даже команды шли из Москвы: искать и выявлять антисемитов. Опять-таки, врагов народа, только уже на новый лад… Мы с моим папой везли тебя в Минск в чемодане, открытом, на нижней полке. Вот первая твоя люлька. А в Минске от вокзала, через железнодорожные пути прямиком к бабушке и сестре отца, в тот самый дом. Все же две женщины, а я одна тогда не справилась бы. Репетиции, концерты…