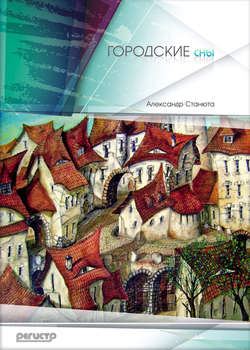Читать книгу Городские сны (сборник) - Александр Станюта - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Городские сны
Глава девятая
Певица и кавалерийский капитан
IV
ОглавлениеКогда мать, наконец, вернулась из эвакуации, когда нашла живым и сына и всех своих родных, она не увидела в старом деревянном доме на булыжной улице за вокзалом только того, благодаря кому все уцелели и с белой головы сына даже волос не упал.
Бывший кавалерийский капитан уже сидел в тюрьме за коллаборационизм и ждал суда. И после долгих лет совершенно разных жизней уже давно чужих людей она к нему ходила. На улицу с довоенным названием Интернациональная.
Вот где кончался тот роман их жизни, вот где происходил его финал.
Что было тогда сказано, подумано, угадано обоими? О чем они молчали, понимая каждый только свое и заверяя, видимо, что понимают и чужое?
Вот где настоящая загадка, тайна, недосказанный конец в истории не стран, не народов, а той, которую лично он, Сергей Александрович Забелла видит и чувствует как именно историю людей. Ибо его не научное на этот раз исследование ведется в границах судеб двух людей, пославших его в жизнь и сохранявших, защищавших его в ней всеми доступными им способами.
Никто и не заметит, даже и глазом не моргнет, но сам увидишь, если повезет: не обладая хотя бы смутным ощущением своей судьбы, чувством своей личной истории, – не поймешь и ничего вокруг.
Будешь лишь делать вид. Будешь всегда готовым это скрывать, чтобы тебя не распознали как человека, которого как бы и нет, который, не имея своей сущности, словно бесполый. Будешь, пусть неосознанно, искать везде обидчиков, ибо обида в таких случаях – лучшая защита.
Люди, с которыми такое происходит, нередко винят в этом все вокруг. Они готовы горько заявить: для нас и целый мир – чужбина. Неправда. Не мир для них, а они сами для него чужие. Они забыли или не хотят знать смысл слова «неприкаянность». А это неспособность каяться, признавать свою вину – и больше ничего.
Он думал: если б до конца понять, что именно двигало отцом, когда, увидев, что он лишняя обуза для военкомата в канун войны, отец не ушел в партизаны, и не двинулся с семьей на восток в потоке беженцев.
Тогда там люди шли днями и ночами, меньше всего боясь ослушаться республиканского партийного начальника Пономаренко, что призывал в листовках, видно, уже из Москвы, не поддаваться панике и оставаться на своих местах.
Ну что ж, отец и не поддался, остался на своем месте сам, без чьей-нибудь листовки и подсказки. А толком понять что-либо было уже не просто. Немцы вошли в Минск в ночь на 27-е июня, обойдя его сперва. А начиная с 22-го, в городе уже были их парашютисты, переодетые в советскую одежду. Об этом знали, их пытались выловить, хватали всех, кто вызывал малейшее подозрение, едва не расстреляли человека, у которого в кармане нашли плоскогубцы…
Он думал: если б до конца понять, что двигало отцом, пошедшим работать на оккупационную городскую биржу труда…
И он спросил себя, подумав, что вторгается, может, в неосознанное до конца самим отцом: только ли для спасения сына, семьи пошел тогда отец работать в учреждение оккупационной власти? Или еще и для того (пусть безотчетно), чтобы получить хоть горькое, но удовлетворение, род компенсации за оскорбленное достоинство кадрового военного, офицера, брошенного своим, военным миром, уже ненужного, списанного со счетов? И чтобы пусть ценой неминуемой послевоенной расплаты, может, и гибели, предстать в глазах бывшей жены не просто брошенным мужем, а жертвенным спасителем их сына? И, может, это бесконечный, без победителя и побежденного, упорный поединок самолюбий и обид?
Но можно пойти и дальше в этих вопросах – спросить о том, что с большей или меньшей четкостью приходит в голову вот уже много лет:
– а что, если отцовский случай – как раз тот, когда идеология и общепринятая политическая вера предаются, преступаются ради спасения родных людей – а не наоборот?
Может быть, мать, когда ходила в суд к отцу той осенью 44-го, его благодарила? И, может, он услышал наконец от нее то, что хотел, о чем мечтал, лежа, нетрезвый, с папиросой в углу рта и с мокрыми глазами при той короткой бомбежке, когда немцы быстро дали отбой воздушной тревоге?
Может быть, в городе, когда она ходила в суд к отцу, в разбитом, страшном Минске уже опять висели кое-где афиши с ее именем: ЛЕОКАДИЯ ЗАБЕЛЛА?
Одно лишь было точно, непреложно – она сменила сыну отцовскую фамилию на свою. Она боялась: сын будет поступать в пионеры и в комсомол; она сама, похоже, снова будет на виду, она певица. Война ушла. А довоенное – куда же денется? Вернется. И с ним вернутся те же слова: враги народа. А есть слова – так будут и дела.
Прежняя жизнь после всего, что было не похоже на нее три года в этом городе, медленно пошла по старым, теплым еще следам.
И мать, когда была свободна, читала Сереже, своему бледному Забелле, не вылезавшему из дома из-за болезней, книги, которых не было на этажерке с патефоном в доме у бабушки за вокзалом, на улице Толстого.
Их приносила в дом она сама – брала в уже открывшейся после войны библиотеке. И в его будущую жизнь потянулись откуда-то новые, незнакомые еще названия и имена: «Всадник без головы» Майн-Рида, «Последний из могикан» Фенимора Купера, «Челюскинцы» Александра Миронова…