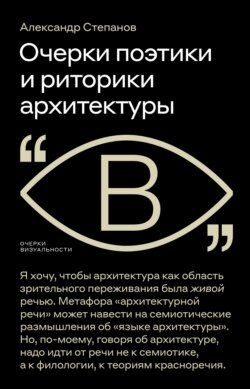Читать книгу Очерки поэтики и риторики архитектуры - Александр Степанов - Страница 13
Святилище и храм
Храм Кандарья-Махадева 102
ОглавлениеИндия, 1838 год. В четырехстах милях юго-восточнее Дели, в местности, называемой Кхаджурахо («кхаджура» – «финиковая пальма»), проводники выводят британского офицера – капитана Берта – к затерянному в джунглях огромному древнему городу. Среди множества каменных сооружений одно привлекает внимание особенно величественным силуэтом и захватывает необыкновенной откровенностью высеченных на нем сексуальных сцен. Как и другие сооружения комплекса, оно стоит на прямоугольном подиуме высотой четыре с половиной метра. На подиум ведет узкая лестница без перил с очень высокими ступенями. С подиума на той же оси еще одна лестница, сужаясь, поднимается ко входу высотой в два человеческих роста, сжатому мощными орнаментированными пилонами, над которыми нависает приподнятый на толстых колоннах каменный навес.
При взгляде с этой оси, с востока, сооружение выглядит колоколовидным, сильно вытянутым вверх нагромождением сложных архитектурных профилей, столбов, колонночек, тороидальных колец из вертикальных каменных пластин, стопок выпуклых дисков и похожих на яблоки вазонов с каменными каплями над ними. Никаких проемов, кроме черного зияния входа. «Соединение огромного и малого, массы храма и его бесчисленных мелких деталей порождает чувство, подобное впечатлению от готического собора или мусульманской мозаики: чувство немого, обессиливающего восхищения перед чем-то, что ни глаз, ни ум не в силах охватить»103. При умопомрачительном многообразии скульптурного убранства здание строго симметрично. Но здание ли это или колоссальная монолитная скульптура на постаменте? Трудные для подъема лестницы, обработанная с невообразимым усердием гигантская масса камня, громоздящаяся над таинственной глубиной портала, – чтобы все это понять и принять, надо владеть смыслами этих форм. Ясно одно: это сооружение, как и аналогичные ему, затерянные в этом лесу, – не дворец и не дом, а если и дом, то дом какого-то бога, то есть храм.
При взгляде с юга становится понятно, что до сих пор мы видели только переднюю из четырех башен храма, образовавших подобие горной цепи длиной тридцать метров. Их высота резко возрастает от восточной башни к западной, высотою в те же тридцать метров. Стало быть, боковая проекция храма вписывается в квадрат.
Различаются три уровня. Внизу – многослойный цоколь высотой в четыре с половиной метра, немного наклоненный внутрь, прямоугольные выступы и отступы которого являются, собственно, сросшимися основаниями башен.
На среднем уровне башни все еще не отделены друг от друга. Их эркеры с глубокими лоджиями, в которых виднеются толстые столбы, перемежаются трехъярусным скульптурным фризом, изобилующим сценами соития. Вход в храм находится как раз на высоте эркеров.
Нижний и средний уровни, взятые вместе, образуют продолговатое плато высотой около девяти метров, узкое при входе и расширяющееся прямоугольными выступами вплоть до третьей башни, где его ширина достигает восемнадцати метров, после чего, сжавшись, плато снова расширяется под столь же широкой четвертой башней, которая обращена на запад еще одним эркером с лоджией.
Верхний уровень – сами башни (шикхары). Они сложены из тех же многообразных форм, что были видны спереди. Неровная небесная линия храма и в самом деле кажется не искусственным, а природным образованием. Непонятно, полые эти башни или сплошные. Гигантский параболоид западной шикхары резко выделяется не только высотой, но и множеством орнаментированных вертикальных складок, создающих впечатление окаменевшего потока. Она увенчана гофрированным воротником, над которым высится похожий на яблоко сосуд с гигантской каплей наверху. Ее конфигурация повторена облепившими ее мелкими башенками.
Город, открытый для европейцев капитаном Бертом, был столицей правителей династии Чандела, разрушенный завоевателями-мусульманами в XIII веке. Интересующее меня сооружение, впервые им описанное, – индуистский храм Кандарья-Махадева. Он был построен около 1020 года императором Видьядхарой в ознаменование военных триумфов и посвящен богу Шиве – покровителю императорской семьи. Махадева («величайший бог») – имя Шивы. «Кандарья» происходит от «кандара» – «пещера». Имя Кандарья указывает на то, что под западной шикхарой скрыта гарбагриха («утроба») – святилище, в котором находится главная святыня храма – Шивалингам.
В Древней Индии проектирование, строительство, система скульптурного убранства индуистских храмов регламентировались текстами, авторство которых приписывалось небесному архитектору Вишвакарме. Поэтика храмов, посвященных Шиве, отсылала к священной горе Кайлас в Гималаях, на которой обитает этот бог104. Мифологический смысл храмов разворачивается последовательно от главной башни к башне над входом. Тороидальные кольца на башнях означают небесную сферу; яблочной формы вазоны над ними суть сосуды с напитком бессмертия; воспринимаемые вместе, они символизируют освобождение души индуиста (Атмана) от земных страстей и воссоединение этой единичной души с божественной душой – Брахманом. «Бесконечная репликация одних и тех же форм в разных масштабах производит эффект непрерывного, безграничного творения и развития, непрекращающейся божественной деятельности. Пожалуй, именно верхняя часть здания наиболее полно и наглядно демонстрирует мотив бесконечного движения, цикла перерождений – самсары»105.
Храм Кандарья-Махадева величав, но невелик: он свободно уместился бы внутри Пантеона. Его величавость – эффект риторический, достигнутый искусством создания иллюзий. Чтобы хорошо видеть весь храм, надо сойти с подиума на землю, и тогда каменная громада, поднятая над землею, безраздельно господствует в окружающей среде, а скульптурные фигуры непроизвольно воспринимаются равными человеческому росту, тогда как на самом деле их высота вдвое меньше, благодаря чему размеры храма как бы удваиваются. Рост высоты шикхар не по прямой линии, а по экспоненте воспринимается как нарастание сил, устремленных в небо. А когда мы рассматриваем храм с подиума, в упор, он заполняет полнеба необъятным разнообразием своих форм.
«После обхода храма снаружи, наблюдения его словно вибрирующих и живых форм, заходящий внутрь человек почувствует очень резкий контраст. В первую очередь, он обусловлен погружением в почти кромешный мрак. (…) Внутри храма не только темно, но также сыро и холодно, что неизбежно наталкивает на ассоциацию с пещерой. (…) После того как глаза привыкли к темноте, посетителю храма может показаться, что интерьер достаточно скуп и даже скуден художественно».106 Но как раз благодаря этому «именно внутри, а не снаружи храма обнажается его структура, его архитектоника. (…) Взгляду открываются плоскости стен и потолка, появляются колонны, плавные изгибы экстерьера сменяются прямыми углами. Конструкция храма выступает наружу как некое откровение»107. Из зала в зал пол поднимается на одну ступень. Перекрытия представляют собой ложные своды, выложенные слоями плоских плит в различных геометрических конфигурациях.
Из вестибюля переходим в двухколонный зал собраний, расположенный под второй шикхарой. Этот зал, как и вестибюль, освещен через широкие проемы в боковых стенах. Доминантная фигура его перекрытия – круг. За порогом зала собраний, то есть начиная с четырехколонного главного зала, который находится под третьей шикхарой, вступаем в священную зону храма. Его стены гораздо толще, свет идет из лоджий. Потолок, состоящий из множества концентрических кругов, образует ложный свод, который уводит взгляд ввысь, как бы предвосхищая вертикаль вздымающейся впереди главной шикхары108. Здесь могло находиться от силы двести человек – на удивление мало в сравнении с размерами храма. Возможно, это было вызвано кастовыми ограничениями109. Направившись из главного зала влево или вправо, окажемся в узкой галерее, опоясывающей гарбагриху. Прямо же перед нами – две колонны с узорными ступенями между ними, высота которых нарастает: вход в святая святых, в гарбагриху.
Гарбагриха – как бы храм во храме, комната с толстыми стенами, полностью обособленными обходной галереей от несущих стен западной шикхары. По контрасту с другими интерьерами храма сложно профилированные стены гарбагрихи украшены снаружи бесчисленными скульптурами. Обходная галерея расширена лоджиями, из которых на них льется свет. Фигуры, выступающие из темноты и погружающиеся в нее, словно оживают. Их облик и репертуар аналогичен скульптурам храмового экстерьера110.
Внутри гарбагрихи, в центре, находится Шивалингам. Он представляет собой скульптурный символ фаллоса-«лингама» – каменный столб с покатым верхом, стоящий на чашеобразном основании, символизирующем женское лоно. Во время ритуальной службы именно Шивалингам является главным объектом поклонения. Лингам осыпают цветочными лепестками и смачивают кокосовым молоком и водой с эфирными маслами, которые затем стекают по желобу на пол, а затем по другому желобу выводятся вовне, на север, в сторону горы Кайлас. Таким образом, обряд поклонения лингаму связан с обращением к Шиве. Шивалингам занимает почти всю гарбагриху, оставляя вокруг лишь минимум места для кругового обхода. Единственный декоративный элемент интерьера гарбагрихи – ее резной плафон: череда вписанных друг в друга квадратов с кругом посередине. Однако в царящей здесь темноте он не виден. Значит, он предназначен не для человеческих глаз, а для глаз Шивы, воплощающегося под этими формами, а также в них самих.
По мнению Титуса Буркхардта, форма круга соответствует космическому бытию, а квадрата – конечному земному бытию: «Образ завершения мира символизируется прямоугольной формой храма в противопоставление круглой форме мира, управляемого космическим движением. В то время как сферичность неба неопределённа и не доступна никакому измерению, прямоугольная или кубическая форма священного здания выражает определенный и неизменный закон. Вот почему всю сакральную архитектуру, к какой бы традиции она ни относилась, можно рассматривать как развитие основной темы превращения круга в квадрат»111.
103
Труфанова О. Указ. соч. С. 19
104
В отличие от традиционной храмовой конструкции, шикхары Кандарья-Махадевы не сплошные, а полые, чем облегчалась задача распределения их давления на опоры и фундамент.
105
Труфанова О. Указ. соч. С. 23–25.
106
Труфанова О. Указ. соч. С. 34.
107
Там же. С. 36.
108
Там же. С. 27–30, 34–36.
109
Архитектурные стили индуистских храмов. URL: https://studfiles.net/preview/3297455/ (дата обращения 09.08.2019).
110
Там же. С. 35.
111
Труфанова О. Указ. соч. С. 31–33. Цит.: Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. URL: http://verigi.ru/?book=170&chapter=2 (дата обращения 09.08.2019).