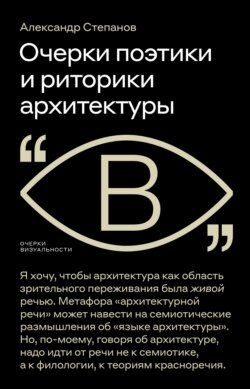Читать книгу Очерки поэтики и риторики архитектуры - Александр Степанов - Страница 7
Святилище и храм
Храм Амона-Ра в Карнаке
ОглавлениеПринципиально другая архитектурная модель торжественного ритуального шествия представлена древнеегипетскими храмами. Каменные развалины величайшего из них, посвященного Амону-Ра, стоят на восточном берегу Нила, рядом с нынешним арабским селением Карнак на месте главного центра почитания Амона – древних «стовратных», как называли их греки, Фив в семистах километрах от устья Нила.
«Для Египта раньше и острее, чем для других стран, встала проблема замены дерева каким-то другим материалом, – писал Людвиг Курциус. – Страна Нила бедна деревом, зато богата превосходным строительным камнем. С тех пор как архитектура взялась за большие задачи, старых строительных средств – нильского ила, тростника, кирпича, дерева – больше не хватало или они не могли дать требуемого впечатления величия и роскоши. (…) Архитектура Передней Азии никогда не освободилась от кирпича, греческие и римские храмы долго строились тоже из необожженного кирпича, и даже северная архитектура осталась бы деревянной, если бы не римское, а затем романское каменное зодчество, воздействовавшее на нее. При исследовании оказывается, что движущей силой мировой архитектуры, внедрившей каменное строительство, был Египет, оказавший влияние сначала на Крит и Переднюю Азию, а затем и на Грецию»37.
Карнакский храм Амона-Ра строили более тысячи лет, продвигаясь с востока на запад вслед за отступавшим берегом Нила, нанизывая на прямую ось, направленную на восход солнца в день зимнего солнцестояния, всё новые звенья комплекса, протянувшегося в итоге на четыреста метров. Жрецам было важно, чтобы вход в храм не удалялся от берега: близость Нила гарантировала их храму благополучие.
Участники религиозных празднеств, приплыв по Нилу, высаживались на гранитной пристани и входили в храм через западный пилон, поэтому пилоны нынешнего комплекса пронумерованы египтологами с запада на восток. Но нынешний первый пилон – не древнейший. Во времена царицы Хатшепсут и фараона Тутмоса III, когда начался период наиболее активного строительства храма, пристань находилась в шестидесяти шагах от третьего пилона – самого древнего, так что место, на котором впоследствии вырос Большой многоколонный (гипостильный) зал, было на треть под водой. Ко времени Тутанхамона Нил отошел более чем на двести метров, однако храм обзавелся огромным бассейном на месте нынешнего первого двора, соединенным с Нилом широким каналом. К VIII веку до н. э., когда Нил освободил всю территорию, занятую ныне храмовым комплексом, бассейн перестал существовать, благо первый пилон находился в ста метрах от берега, остававшегося в течение последующих четырехсот лет неподвижным38. Ныне Нил ушел от этого пилона более чем на полкилометра.
Задолго до того, как пришвартоваться к храмовой пристани, посетители видели на фоне далеких скалистых обрывов, за прибрежными пальмами гигантские трапециевидные грани пилонов и иглы обелисков со сверкающими остриями. Постепенно панорама строений поворачивалась к ним фронтально, обелиски исчезали за пилонами, и, когда прибывшие ступали на пристань, все поле зрения занимал самый грандиозный пилон высотой сорок пять и шириной сто тринадцать метров. Аллея сфинксов с бараньими головами вела к проему, зажатому между двумя колоссальными каменными трапециями. Десятки сфинксов слева и справа различались только тем, что у левых головы освещены, а у правых оставались в тени, – и от этого посетителю могло показаться, будто не он приближался к пилону, а пилон надвигался на него всей своей непомерной высью и ширью. Флаги на прикрепленных к пилону мачтах, гигантские ярко раскрашенные фигуры и иероглифические надписи на необъятных стенах создавали торжественное настроение. В отличие от привычных нам выпуклых рельефов, у египтян плоскость стены не являлась фоном изображений – напротив, она выступает вперед, и это заставляло воспринимать стену как цельное, нерасчленимое каменное тело, которое сохраняет изображения несравненно дольше, чем выпуклый рельеф.
Врата храма в сравнении с громадой пилона казались щелью, хотя на самом деле в них десять шагов ширины при утроенной высоте. В обширном квадратном дворе, окаймленном по сторонам портиками десятиметровой высоты, внимание сразу захватывала аллея шириной в двадцать метров, образованная дюжиной симметрично стоящих колонн двадцатиметрового роста с капителями, изображающими распустившийся цветок лотоса. Утром левая, а около полудня правая колоннада отбрасывали сплошную тень. Каменная аллея вела ко вторым вратам, таким же, как первые, однако в их проеме сгущалась темнота. Обрамляющий их пилон, равный первому, из‐за небольшого расстояния казался твердокаменной беспредельностью.
Миновав вторые врата, прибывшие оказывались в Большом гипостильном зале, где надо было дать время глазам, чтобы увидеть что-либо после залитого светом двора. Вырисовывалась аллея колонн такой же высоты и с такими же капителями, как во дворе, но более массивных. Но ширина ее уступала той втрое. Из-под каменного перекрытия пробивался справа, через решетки, свет, косых полос которого хватало, чтобы высветить только верх левой колоннады. По сторонам – исчезающее во все более плотном сумраке множество мощных десятиметровых колонн, несущих на себе плоское каменное небо. Привыкшие к сумраку глаза могли читать колонны как свитки, исписанные врезанными и раскрашенными иероглифами.
Оказаться в этом окаменевшем лесу, находясь на самом деле в долине реки, протекающей сквозь великие пустыни, значило перенестись силой архитектуры в мир иной, где нет ни немилосердно палящего солнца, ни песчаных бурь. Чтобы лучше представить переживания участников празднества, вспомним, что прежде, чем фиванские жрецы объединили своего бога с гелиопольским богом Солнца Ра, Амон (в переводе «сокровенный») был олицетворявшим плодородие богом ночного неба, отцом бога Луны. Искусно используя контрасты тьмы и света, архитектура храма Амона-Ра могла напоминать об исходно противоположной сущности объединившихся богов. Если аллея сфинксов под открытым небом воспринималась как область владычества Солнца-Ра, которому подчинялась бараньеголовая свита Амона; если во дворе Ра делился властью с Амоном, чьими представителями выступали защищавшие от солнца колонны, то в Большом гипостильном зале Амон царствовал. Его имя, согласно одной из этимологических гипотез, восходит к слову «вода»; лотос же, чьи распустившиеся цветы изображены капителями главных колонн этого зала, – растение водяное. Балки перекрытия опираются не на капители, а на невидимые снизу кубические блоки меньшего размера. Поэтому казалась, что окрашенный в голубой цвет потолок распростерт над аллеей колонн, как небо над Нилом.
На оси среднего нефа Большого гипостильного зала светился в сумраке проем такой же ширины, что предшествовавшие, но не столь высокий – врата третьего (древнейшего) пилона, почти столь же грандиозного, как первые два. Миновав его, шествующие неожиданно оказывались в поперечном каменном ущелье стометровой длины между третьим и четвертым пилонами. В нескольких шагах по сторонам от процессионного пути устремлялись в далекое узкое небо четыре обелиска. Между четвертым и пятым пилонами, размеры которых значительно уступают первым трем, процессия снова вступала из света в темноту, в узкий поперечный Малый гипостильный зал с тесно поставленными семью парами колонн. Пронизывая перекрытие этого зала, устремлялись в небо два тридцатиметровых обелиска Хатшепсут39. Выйдя из этого зала, пройдя сквозь сравнительно небольшой шестой пилон и миновав Зал анналов, на стенах которого изображены военные триумфы фараонов, жрецы останавливались в четырехколонном святилище. Здесь на алтаре стояла священная золотая ладья Солнца.
22 декабря через проем в заалтарной стене луч восходящего солнца проникал в храм, представляя рождение Солнца и начало солнечного года. Горизонтальный луч пронизывал врата, залы, дворы, скользя мимо колонн и обелисков. Священную ладью со статуей сидящего в ней Амона несли из святилища к Нилу, спускали на воду, и фараон совершал в ней торжественное плавание по реке, после чего ладью возвращали в святилище.
Многократно повторяя идентичные архитектурные формы, направляя ритуальное шествие сквозь симметричные анфилады, остро противопоставляя простор и тесноту, свет и тьму, резко сменяя продольную ориентацию поперечной, варьируя без постепенных переходов высокие и низкие перекрытия, египетские зодчие умело настраивали человеческую душу на мистическое предвосхищение богоявления. В этой драме пилоны играли роль завес, до определенного момента скрывавших очередную фазу священнодействия и тем самым повышавших степень его эмоционального воздействия.
Несмотря на значительные разрушения, очень сильное впечатление производят до сих пор колоннады Карнака. К началу строительства храма Амона-Ра колонны были знакомы египетским зодчим свыше тысячи лет, однако прежде они не использовали колоннады с такой изобретательностью, так многообразно. В этом храме мы видим колонны в различных вариантах, которые впоследствии будут встречаться в архитектуре различных эпох, разных стран: в качестве ограждения галерей, в свободно стоящих рядах, в многоколонных залах с верхним освещением, разделенных на продольные и поперечные нефы, как в христианских базиликах. Изобретенный египтянами гипостильный зал найдет применение в сооружениях различного назначения: в константинопольской подземной цистерне Базилика, в персепольском дворце Ападана, в мечетях дворового типа, в читальных залах библиотек, в залах ожидания транспортных терминалов.
37
Курциус Л. Египетский храм // История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935. C. 15, 16.
38
Boraik M., Gabolde L., Graham A. Karnak’s Quaysides. Evolution of the Embankments from the Eighteenth Dynasty to the Graeco-Roman Period // The Nile: Natural and Cultural Landscape in Egypt. Mainz, 2017. P. 97–144.
39
«Мировой рекорд для памятников такого типа, сделанных из одного блока» (Пунин А. Искусство Древнего Египта. Среднее царство. Новое царство. СПб., 2010. С. 222, 223).