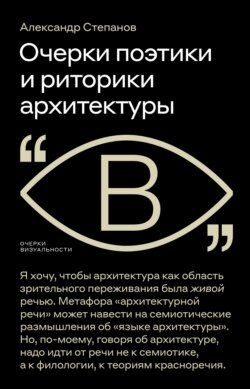Читать книгу Очерки поэтики и риторики архитектуры - Александр Степанов - Страница 9
Святилище и храм
Парфенон
ОглавлениеВитрувий в триаде целей, которые архитектор должен иметь в виду, за какое бы сооружение он ни взялся, сначала упоминает прочность, затем пользу и, наконец, красоту. Но по количеству упоминаний (вместе с производными словами от ключевого термина) в его трактате решительно лидирует польза (119 упоминаний), от которой сильно отстает прочность (41 упоминание), а красота замыкает триаду (24 упоминания), причем чаще всего это архитектурное достоинство встречается в первых трех главах книги IV, где речь идет о колоннах49. Делаю несколько рискованный, ибо недоказуемый, вывод: для римлян красота не была желаемым свойством всякого утилитарно необходимого и прочного сооружения; она вообще была не столько собственным свойством сооружений, сколько украшением, которым архитекторы наделяли или не наделяли их, исходя из соображений декорума, то есть благопристойности; при этом главным средством украшения были колонны.
В Древней Греции господствующим типом здания с колоннами на протяжении четырех столетий (VII–IV веков до н. э.) был периптер – храм, прямоугольное помещение которого, замкнутое глухими стенами (так называемый «наос» – слово, означавшее одновременно и храм и жилище), обнесено со всех четырех сторон колоннадой. «Устройство наружной колоннады и навеса вокруг храма первоначально могло быть вызвано практическими целями – необходимостью защитить недолговечные сырцовые стены от косого дождя, укрыть собравшихся от солнца или непогоды; под навесом наружной колоннады, быть может, хранилось храмовое имущество и т. д.», – перечисляют причины возникновения периптера авторы капитального труда «Архитектура Древней Греции»50. Аналогичный довод приводит мимоходом и Борис Виппер51. Меня эти объяснения не убеждают. Для защиты стен и укрытия людей достаточно было бы навеса на выпущенных наружу деревянных балках перекрытия. Предположение о хранении храмового имущества под открытым небом нелепо: в храмах специально для этого существовал «опистодом» – небольшое помещение с отдельным входом, примыкавшее к наосу со стороны, противоположной главному входу. Красноречивое «и т. д.» убеждает в том, что выдумывать практические цели возникновения колоннады периптера – дело неблагодатное.
Наос Парфенона обнесен со всех сторон сорока шестью колоннами десятиметровой высоты. Колоссальный труд! А ведь без этих колонн ритуалы, связанные с Парфеноном, и прежде всего Панафинейские шествия, совершались бы неукоснительно без ущерба для сакрального смысла. Мало того, не будь колонн, участники процессий могли бы хорошо видеть (увы, скрытый колоннами) фриз, изображающий как раз то, ради чего они поднимались на Акрополь к храму Афины-Девы. Чем был бы хуже Парфенона храм, который получился бы, если бы Иктин (допустим, с согласия Перикла и санкции народного собрания) не стал ограждать наос колоннами, требовавшими колоссальных затрат труда и денег?
Элементарный недостаток такого храма заключался бы в том, что, будучи гораздо меньше Парфенона, он был бы малозаметен при взгляде на Акрополь снизу, из города, и не смог бы играть роль символа общегражданского единства Афин. Эта роль Парфенона была неотделима от его религиозно-культового назначения. Насколько она была важна для политического самосознания афинян, видно из того, что уже тиран Писистрат, правивший городом за сто лет до Перикла, стал понимать Акрополь не как укрепленную резиденцию светской власти (так было в микенский период, когда на неприступной скале стояла твердыня царского дворца), а как священный холм покровительницы города – Афины. Фортификационные преимущества Акрополя отходили на второй план, и вместо того, чтобы властно противостоять городу, он стал гигантским алтарем – медиатором между гражданами полиса и их божественной защитницей. Перестав быть цитаделью мужского владычества, Акрополь стал афинским местообиталищем богини-девы. В Гомерову эпоху это место было окраиной города – теперь же разросшийся город окружал его со всех сторон. Главный афинский храм (при Писистрате – Гекатомпедон, при Перикле – Парфенон) обязан был быть виден отовсюду52.
Сделать Парфенон внушительнее, не прибегая к схеме периптера, можно было бы, увеличив параллелепипед наоса, но не расширяя его, чтобы не усложнить задачу перекрытия. Получилась бы длинная, узкая, высокая нечленораздельная глыба с портиками спереди и сзади. Взойдя на Акрополь и направляясь к расположенному с противоположной стороны входу в Парфенон, Панафинейская процессия тянулась бы мимо его теневой северной стены – огромной глухой преграды, поднятой на три монументальные ступени и оживляемой только фризом. Однако малый размер его фигур еще усиливал бы сверхчеловеческую мощь неприступной стены. Это было бы серьезным испытанием для праздничного настроения участников шествия.
Я не хочу сказать, что Иктин думал: с колоннами строить или без? С тех пор как был изобретен периптер, сама возможность такого выбора была исключена. Чем же так привлекала эллинов периптеральная композиция? Тем, что торцевые стороны храма раздаются вширь, не осложняя конструкцию перекрытия. Вырастают фронтоны. Жилище бога, полускрытое ребристой колоннадой, воспринимается, как вещь в футляре, изяществу которого сообразна ценность самой вещи. Укрытое многоскладчатым каменным хитоном, жилище бога приобретает существенные свойства святыни – величественность и таинственность. Таковы преимущества периптера при восприятии издали.
Неоспоримы и преимущества, раскрывающиеся по мере приближения к нему. Большие фронтоны можно украшать фигурами, превышающими человеческий рост. В соотнесении с их размером храм оказывается не таким подавляюще-громадным, как может показаться издали. Иктину не надо было читать Джона Рёскина, чтобы знать, что в руках архитектора «единственное орудие и главное средство достижения величественности – это четкие тени… можно сказать, что после размера и веса важнейшим фактором, от которого в архитектуре зависит Сила, является количество тени, измеряемое ее величиной или интенсивностью»53. В глазах того, кто идет вдоль длинной стены храма, колонны с их бесчисленными оттенками светотени движутся относительно теней, отбрасываемых ими же на стену. Без этой игры контраст между непроницаемой твердью, хранящей внутри изваяние бога, и пустотой, окружающей храм, казался бы непримиримым. Колонны суть вехи на пути процессии. Храм артикулирует дорогу людей к богу. Разве колоннада периптера – слишком большая цена за эти достоинства?
«Раз возникнув, колоннада начинает применяться с художественной целью», – завершают бесплодный поиск утилитарных причин возникновения периптера упомянутые выше историки архитектуры54. Мне остается только добавить: художественная цель с самого начала была единственной. Очевидна истовая озабоченность эллинских зодчих эффектом чувственно воспринимаемой оболочки храма, не имевшая прецедентов ни в мегалитической архитектуре, ни в зодчестве Месопотамии и Египта. Архитектура периптера сводится, по сути, к его фасадам: не к замкнутому каменному телу со статуей божества внутри, а к внешнему облику многоколонного павильона, надетого на это тело.
Но художественная цель – не обязательно только декоративная. Я согласен с рассуждением Людмилы Акимовой: «Колоннада… представляет собой единство, состоящее из суммы равноценных элементов. Каждая колонна – независимое тело, индивидуум, со своим особым местом в системе целого… Но целое получает законченность лишь благодаря совокупности таких „личностных“ сил, их соподчинению в общей конструкции здания. Возникает идея коллектива, все члены которого, вышедшие из общих корней, с равным усилием несут возложенное на них жизненное бремя. Они исполняют ритуал [курсив автора. – А. С.]»55. Этот архитектурный ритуал выражал единодушную веру афинских граждан в покровительство, оказываемое их полису Афиной.
Возникшее в эпоху Просвещения убеждение в непревзойденном благородстве архитектуры Парфенона со временем стало непререкаемой истиной. А ведь к тому времени, когда это убеждение сложилось, храм уже давно был руиной. Благодаря взрыву в 1687 году порохового погреба, устроенного в Парфеноне турками, храм освободился от непроницаемого для взора наоса. Все колонны на торцах храма и большинство на длинных сторонах уцелели, и архитектурная суть периптера – каре колонн, несущих антаблемент, – явилась в чистом виде. Не утратив силы колоннад, храм, истерзанный взрывом, приобрел прозрачность и легкость, какими творение Иктина первоначально не обладало. Освобождение ограды от ограждаемого ею тела по иным причинам пережили и храмы в Пестуме. Однако пестумские колоннады выглядят несравненно тяжелее из‐за толстых колонн, узких просветов между ними и очень массивных антаблементов. Они тяготеют к земле – Парфенон хочет быть ближе к небу, к Афине. Гордое сопротивление Парфенона разрушительным силам воспринималось просвещенными европейцами как метафора самоутверждения бескорыстного созидательного «Я», героически преодолевающего страдания. В том Парфеноне, каким он был при Перикле, мы вряд ли увидели бы этот смысл с такой ясностью, как в нынешней руине. Просветительский культ Парфенона – культ руины. Не о Перикловом Акрополе, а о том, каким его узнали европейцы Нового времени, писал Ле Корбюзье: «Ничего ни убавить, ни прибавить к этим жестко связанным и мощным элементам, звучащим ясно и трагично, как медные трубы»56.
Восприятием Парфенона как возвышенного трагического существа мы должны быть благодарны не только туркам, но и графу Элджину, который в начале XIX века вывез в Англию большинство сохранившихся фронтонных статуй, а также метопы южного фасада и почти весь фриз, изображающий Панафинейское шествие. Со стен Парфенона исчезли сцены борьбы, побед, поражений, страданий и торжества, по отношению к которым его архитектура выступала носительницей, экспозиционным полем. Великое патетическое искусство Фидия и его мастеров отвлекало взгляд, мысль, воображение от собственно-архитектурного смысла Парфенона. Томас Элджин не просто спас скульптурное убранство храма от окончательного разрушения под воздействием природной среды и враждебного культурного окружения – он явил последующим поколениям европейских поклонников античности тот Парфенон, которым мы восхищаемся и который наводит на размышления, ясно выраженные Полем Валери: «Парфенон построен на отношениях, ничем не обязанных наблюдению реальных предметов. После чего его населяют героями, подчеркивают его формы орнаментом. Я предпочел бы, чтобы глаз в этом скопище не узнал ничего конкретного, чтобы, напротив, он обнаруживал в нем какой-то новый предмет, не отсылающий его к внешним подобиям, – предмет, который виделся бы ему как его, глаза, личное детище, сотворенное им для бесконечного созерцания собственных своих законов»57.
Умозрительному созерцанию Парфенона как воплощения собственных законов глаза способствует и то обстоятельство, что с Акрополя давным-давно исчезли сооружения и ограды тех времен, когда он был афинской святыней. Не имея ничего общего с архитектурной «мистерией» египетских храмов, совершавшейся внутри них, модель Панафинейского шествия несколько напоминала модель «восхождения», принятую в культовой архитектуре Двуречья. Чтобы прийти к Парфенону, участники шествия, надолго потеряв его из виду, поднимались по лестницам с западной стороны Акрополя, проходили сквозь Пропилеи и, поскольку храм стоит на самом высоком месте холма, продолжали подъем, оставив Парфенон справа, чтобы подойти ко входу в храм с востока. Они не могли видеть от Пропилеев северо-западный угол Парфенона так, как видят и фотографируют его нынче. Нижнюю часть храма заслоняли ограды святилища Артемиды и хранилища оружия. Увидеть Парфенон сверху донизу можно было, только дойдя по постепенно поднимающейся дороге до траверса портика кариатид Эрехтейона. Но тут поле зрения посетителя целиком занимал длинный и сплошь затененный северный фасад Парфенона. Столь эффектные ныне угловые ракурсы были доступны только с очень близких точек зрения на платформе перед западным фасадом храма или с юго-восточного угла Акрополя.
Но социально-психологические различия религиозного церемониала в Афинах и в Уре существеннее визуальных аналогий. Восхождение на Акрополь было всенародным. Те, кому разрешалось входить в Парфенон, отделялись от остальных участников процессии только близ ступеней восточного фасада. В Уре же, судя по узости проходов на священный двор, обособление достойных приблизиться к богу происходило еще до того момента, когда люди могли увидеть подножие зиккурата с его лестницами. Восхождение как таковое было привилегией жреческой и царской элит.
Благодаря нормативной определенности поэтики периптера архитектор, которому поручали проект периптерального здания, мог не задумываться об его композиции. Главной его заботой было соблюсти декорум – то, что Витрувий называл «благообразием по обычаю»: «Храмы Минерве, Марсу и Геркулесу делают дорийскими, ибо мужество этих божеств требует постройки им храмов без прикрас. Для храмов Венеры, Флоры, Прозерпины и нимф источников подходящими будут особенности коринфского ордера, потому что, ввиду нежности этих божеств, должное благообразие их храмов увеличится применением в них форм более стройных, цветистых и украшенных листьями и завитками. А если Юноне, Диане, Отцу Либеру и другим сходным с ними божествам будут строить ионийские храмы, то это будет соответствовать среднему положению, занимаемому этими божествами, ибо такие здания по установленным для них особенностям будут посредствующим звеном между суровостью дорийских и нежностью коринфских построек», – писал он и чуть далее предупреждал, что «перенесением особенностей одного ордера на постройку другого будет искажен облик здания, установленный по ранее выработанным обычаям данного строя»58. Выбрав ордер, «благообразный по обычаю», архитектор должен был озаботиться тем, чтобы новый периптер отличался от существующих. Это была работа с пропорциями и украшениями. Тут-то он и проявлял риторическое мастерство.
Гекатомпедон, разрушенный персами предшественник Парфенона, стоял напротив Пропилей. Поднявшиеся на Акрополь видели впереди его западный фасад. Такое расположение не удивляло бы историков искусства Нового времени. Но почему Парфенон поставили много правее этой оси? Почему в городах грекам, по-видимому, не приходило в голову совмещать оси симметрии важных построек с осями ведущих к ним улиц? Можно пытаться объяснять это тем, что в стихийно сложившихся поселениях вообще не было прямых улиц. Но это соображение приходится отклонить при взгляде на план Приены, разбитый во второй половине IV в. до н. э. по «системе Гипподама» – с прямоугольной сетью улиц. Ни храм Афины Полиады, ни святилища Деметры и Кибелы, ни священная стоя, ни экклесиастерий, ни пританей, ни театр, ни стадион, ни оба гимнасия – а других общественных зданий в Приене не обнаружено – не совпадают осями симметрии с осью какой-либо улицы. Можно видеть в этом экономию территории застройки: ведь разместить в Гипподамовой решетке здание на оси улицы было бы возможно, только отдав ему как минимум два смежных квартала. Но неукоснительная последовательность, с какой планировщики Приены избегали совмещений осей зданий и улиц, наводит на предположение, что тому была еще одна причина: здания, будучи нанизаны на оси улиц, изменялись бы по мере приближения к ним только в размерах и тем самым утрачивали бы выразительность. Эллины предпочитали видеть важное здание с угла, как Парфенон от Пропилеев, потому что в изменяющемся благодаря движению наблюдателя ракурсе непрерывно меняется пропорция сторон здания. Человек оживляет его своим движением.
49
Лебедева Г. С. Новейший комментарий к трактату Витрувия «Десять книг об архитектуре». М., 2003. С. 137, 152, 153.
50
Всеобщая история архитектуры. Т. II, кн. 1. Архитектура Древней Греции. М., 1949. С. 23.
51
Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции. М., 2017. С. 130.
52
Сеннет Р. Плоть и камень. Тело и город в западной цивилизации. М., 2016. С. 39, 40.
53
Рёскин Дж. Семь светочей архитектуры. СПб., 2007. С. 142.
54
Всеобщая история архитектуры. Т. II, кн. 1. Архитектура Древней Греции. М., 1949. С. 23.
55
Акимова Л. Искусство Древней Греции. Геометрика, архаика. СПб., 2007. С. 95, 96. Эти соображения перекликаются с идеями, еще в 1937 году высказанными Николаем Бруновым: Брунов Н. Очерки по истории архитектуры. Т. 2. М., 2003. С. 95–97.
56
Цит.: Фремптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. М., 1990. С. 337.
57
Цит.: Молок Д. Ю. Древняя Греция. Происхождение фронтонной композиции // Художественные модели мироздания. Взаимодействие искусств в истории мировой культуры. Кн. 1. М., 1997. С. 42.
58
Витрувий. Десять книг об архитектуре. Кн. I, гл. II, 5, 6 (пер. Ф. А. Петровского).