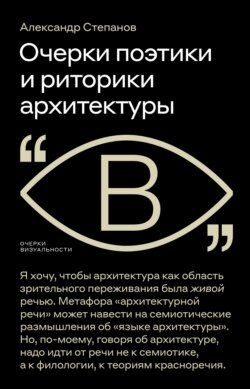Читать книгу Очерки поэтики и риторики архитектуры - Александр Степанов - Страница 6
Святилище и храм
Этеменнигуру
ОглавлениеКак должен поступить могущественный владыка равнинной страны, желающий подтвердить наглядным для всех смертных способом свою близость к верховному божеству, если в его распоряжении имеются средства для содержания любого количества строителей, но нет ни камня, ни дерева для обжига кирпича, зато есть в изобилии глина и солнечное тепло? Он должен воздвигнуть в свою честь и в честь бога гору, на вершине которой сможет общаться с богом. Ее сложат из кирпича-сырца и защитят панцирем из кирпича обожженного. Необходимостью личного контакта с божеством и, в сравнении с мегалитическими сооружениями технической простотой задачи определена длительность строительства: нельзя допустить, чтобы оно растянулось на сотни лет; желательно завершить сооружение при жизни владыки.
Таковы предпосылки возведения зиккурата – жанра храмовой архитектуры, прославившего Древнюю Месопотамию: царства шумеров, аккадцев и вавилонян. Лучше всего сохранился великий трехъярусный зиккурат Этеменнигуру, воздвигнутый в священном квартале Ура – давным-давно исчезнувшего с лица земли города-государства шумеров в низовьях Евфрата. Слово «зиккурат» происходит от вавилонского sigguratu – «вершина», «вершина горы».
Однако самый знаменитый зиккурат в мировой истории – разумеется, ветхозаветная Вавилонская башня, построенная с оглядкой на Этеменнигуру. «Было время, когда весь мир говорил на одном языке, пользовался одними и теми же словами. Идя на восток, люди нашли в стране Шинар равнину и поселились там. Сказали они тогда друг другу: „Будем делать из глины кирпичи и обжигать их в огне. (…) Сделаем себе имя, построив город с башней до самого неба, – говорили они, – это удержит нас здесь: не будем мы по всему свету рассеяны“. Тогда сошел Господь на землю – посмотреть на город и башню, что строили люди, и сказал Он: „Если они – народ единый, с одним для всех языком – такое начали делать, воистину ни одно из их намерений не покажется им невыполнимым! Сойдем же к ним и смешаем их язык так, чтобы они не понимали речи друг друга“. Так рассеял их Господь оттуда по всей земле, и строительство города прекратилось»32.
Если попытаться опустить этот рассказ на историческую почву, получается, что речь идет о предпринятой Навуходоносором II попытке восстановить в Вавилоне построенный за тысячу с лишним лет до того, при Хаммурапи, зиккурат Этеменанки – прямоугольную в основании шестиярусную башню с лестницами, обрамляющими верхние ярусы прямоугольной спиралью. С каждым новым оборотом спираль приращивала уменьшавшиеся градации высоты. Всходившие на башню участники процессий медленно приближались к пределу – площадке на девяностометровой высоте, где находился апартамент Мардука с позолоченным ложем, креслами, столом.
Предложением комфортабельного местопребывания рукотворная земная резиденция верховного божества вавилонян стесняла свободу его воли. Иудейский бог прекратил строительство «башни до самого неба» – хитроумного вертикального моста, отменяющего эксклюзивное божественное право на перемещения между небом и землей и дающего неограниченный импульс человеческой гордыне. В богопочитательном пафосе строителей Вавилонской башни Яхве усмотрел богоборческий потенциал.
Несколько моментов особенно интересны мне в этой истории. Первый: люди видят в строительстве великого сооружения способ перехода от кочевой жизни к оседлой. «Это удержит нас здесь: не будем мы по всему свету рассеяны». Из этого не следует, конечно, что Чатал-Хююк и подобные ему поселения возникли в силу таких же причин. Однако… в дальнем конце «авеню», соединяющей центр Стоунхенджа с берегом Эйвона, найдены жилища строителей.
Второй момент: чтобы посмотреть на башню, Яхве сошел на землю – и только тогда, увидев не план, а всю высоту и красоту ее фасада, он вполне оценил человеческую дерзновенность. Разумеется, эффектностью фасадов были озабочены и создатели башни. Ее ветхозаветная история опровергает историков архитектуры, объясняющих происхождение зиккурата инженерно-технической спецификой осуществления объемно-пространственного замысла. Снова вспоминаю Аристотеля: «Дом потому становится таким-то, что такова его форма, а не потому он таков, что возникает так-то». В Аристотелевом смысле форма Вавилонской башни – это ее вид в панораме города, сбоку, с высоты человеческого роста. Ее объемно-пространственное строение – не исходная идея, а инженерное условие создания эффектной картины – вида со стороны. Строителей вдохновляло, что, возвысившись в панораме Вавилона, башня станет его символом. Перестали строить башню – прекратилось строительство города.
Вернейшим средством остановить строительство башни оказался разрыв речевой коммуникации между строителями. Это заставляет вспомнить свидетельства о том, что на строительстве французских готических соборов важную роль играл посредник между архитектором и мастерами, которого звали parleur – «говорун». Заботой этого человека было переводить чертежи и комментарии архитектора во внятные для мастеров устные объяснения и команды. Яхве превратил слаженный коллектив строителей в бестолковую толпу исполнителей, не имеющих представления об идее произведения.
И еще один момент: почему бы Яхве не заставить царя прекратить строительство? Зачем было переносить ответственность за богоборческое дерзание на весь человеческий род? Получается, что выдающееся архитектурное произведение – самое зловредное творение, какое только могло появиться на свете благодаря человеческому взаимопониманию? Великая честь для архитектуры!
У владык не было способа самоутверждения более желанного, чем навеки связать свое имя с грандиозным архитектурным чудом. Надо думать, Навуходоносор II гордился делом, затеянным, разумеется, не «людьми», а им лично, не в меньшей степени, чем царь Ура – трехъярусной громадой, строившейся по его воле: «Для Нанна, могучего небесного быка, славнейшего из сынов Энлиля, своего владыки, Урнамму, могучий муж, царь Ура, воздвиг сей храм Этеменнигуру», – начертано на глиняном «конусе закладки»33.
Нанна – бог Луны, главный покровитель царей Третьей династии Ура. Он незримо присутствовал в однокомнатном храме-алтаре на верхней платформе Этеменнигуру, с которой жрецы наблюдали за звездами. Верхний ярус Этеменнигуру был побелен, средний сохранял красноватый цвет обожженного кирпича, нижний был покрыт черным битумом34. Вообразите это зрелище не днем, а ночью, в активной фазе функционирования зиккурата: храм-алтарь Нанна в свете Луны над призрачным сиянием верхнего яруса зиккурата.
Этеменнигуру во многом противоположен Стоунхенджу, при том, что воздвигались они одновременно. Вера в величие царя – вот главное переживание, которое должен был внушать зиккурат. Отсюда его колоссальный, в сравнении со Стоунхенджем, массив – шестьдесят метров в длину, сорок шесть в ширину и пятьдесят три в высоту – и цельность силуэта: никаких проемов, просветов, зазоров, окон, никакого разделения тектонического труда между несущими и несомыми элементами. Этеменнигуру вызывает ассоциации не антропные, а природные – с горой, которая священна уже в силу своей уникальности. Рукотворная громада, на террасах которой зеленели деревья35, для большинства жителей страны, в которой нет ни гор, ни лесов, оставалась на протяжении их жизни единственной известной им возвышенностью. Если бы человеческие глаза не уступали дальнозоркостью биноклю и не существовало бы воздушной перспективы, с рукотворной вершины можно было бы обозреть все государство до дальних границ. Нанна таких ограничений не знал.
У зиккурата иные отношения с небом, нежели у кромлеха. Грани Этеменнигуру наклонены внутрь и усилены широкими равномерно распределенными вертикальными ребрами – контрфорсами, которые придали им физическую и визуальную жесткость (сравните гладкий лист бумаги с гофрированным) и покрыли их вертикальными тенями, границы которых ведут взор вверх, к Нанне. Если человеку, стоящему посредине кромлеха, каменное кольцо могло представляться ротондой, покрытой каменным куполом, центр которого находится в недосягаемой выси, то зиккурат сам устремлен в небо, располагаясь под его центром и словно бы соприкасаясь с ним. Имя Вавилонской башни «Этеменанки» означает «Дом, где сходятся небеса с землею».
Зиккурат Этеменнигуру стоял в почти прямоугольном священном дворе размером 110 на 85 метров в ограде, обращенной длинной стороной на северо-восток, со входом в восточном углу. Двор был приподнят на метр над уровнем священного квартала, где при раскопках обнаружены отдельный двор Нанны, его большой храм, храм его жены Нингал и царский дворец. Был еще ход к зиккурату через двор Нанны.
Все было устроено так, что, откуда бы вы ни шли к зиккурату, исключалось постепенное его увеличение в поле зрения: его видели издали, потом он на время исчезал за зданиями и оградами, а когда человек входил в священный двор, взгляд внезапно упирался в черную громаду нижнего яруса зиккурата, возвышающуюся на расстоянии пятидесяти-шестидесяти шагов. Сразу становилось ясно, что фасад Этеменнигуру обращен на северо-восток, потому что именно с этой стороны к нему примыкали три лестницы по сто ступеней каждая: одна – перпендикулярная фасаду и две других, поднимающихся вдоль фасада от углов. Все три сходились в павильоне, стоявшем на высоте первой платформы, от которого ответвлялись вверх и в стороны другие лестничные марши.
Эти лестницы – чрезвычайно плодотворная идея. Что мешало снабдить зиккурат гладкими пандусами, построить которые было бы проще? Дело в том, что на равномерно наклоненную дорогу невозможно прочно встать обеими ногами ни чтобы передохнуть, ни для церемониального приветствия или выстраивания почетного караула. Лестницы зиккурата – не просто вертикальные коммуникации. Они были важнейшими архитектурными средствами оформления торжественного ритуального церемониала, вводя в переживание архитектуры особым образом оформленную длительность шествия, которой не существовало в Стоунхендже. Назову эту модель шествия «восхождением». «Когда Иакову в Бетеле якобы приснилась ведущая на небо лестница с поднимающимися и спускающимися по ней ангелами, он просто бессознательно пересказал то, что слышал от своего прадеда о великой башне Ура. Там лестница тоже вела на „Небеса“, именно так и назывался храм Нанна, и там жрецы по праздникам торжественно сносили вниз по лестнице и поднимали обратно статую бога, чтобы год был урожайным, чтобы приумножились стада и не оскудевал род человеческий»36.
Потомки не забудут находки зодчих зиккуратов. Выступающие из стены ребра-контрфорсы будут использоваться всякий раз, когда надо придать зданию величественность, даже если оно возведено на не нуждающемся в контрфорсах стальном или железобетонном каркасе. Лестницы станут любимым приемом архитекторов эпохи барокко, оформлявших выход государя к посетителям и их восхождение к нему как политический перформанс.
32
Быт. 11, 1–8.
33
Вулли Л. Ур халдеев. М., 1961. С. 133.
34
Виктор Тернер показал, что опыт классификации психофизиологических явлений человеческой жизни, представленный тремя основными цветами – белым, красным и черным – и метафорически переносимый на космос и общество, является «общим для всего человечества» и что «объяснение его распространенности вовсе не требует привлечения гипотезы о культурной диффузии» (Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 103).
35
Вулли Л. Указ. соч. С. 140.
36
Вулли Л. Указ. соч. С. 142, 143.