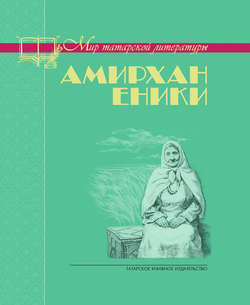Читать книгу Невысказанное завещание (сборник) - Амирхан Еники - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глядя на горы
Оглавление1
В тот год, когда кончилась война, стояла ясная, сухая осень. В один из таких осенних дней вернулся в деревню фронтовик, вернулся позже, чем другие… А на следующий день, захватив узелок с гостинцами, отправился проведать старика Лукмана и его старушку. Через покосившиеся ворота вошёл он в просторный большой двор.
Всё ему здесь было хорошо знакомо, но… Как всё изменилось! Двор зарос бурьяном. Когда-то аккуратный, ладный домишко постарел, стоял теперь сиротливо, обветшавший, съёжившийся.
Остановился гость на минуту, прислушался. Тишина. Только в сухой траве нехотя стрекочет кузнечик. Направился к дому, пригнувшись, вошёл в тёмные сени, нащупал дверь и, приоткрыв её, спросил:
– Можно?
Никто не ответил. Он переступил порог. Навстречу ему, заправляя под платок седые волосы, шла хозяйка.
– Здравствуй, бабушка Шамсинур! Как вы поживаете?
Она смотрела на гостя и не узнавала его:
– Кто ты, сынок?
– Это же я, бабушка, Ахметвали.
– Кто? Кто?
– Ахметвали, говорю.
– Ахметвали?! Сын Гайниджамал?
– Да, он самый…
– Ай Аллам! – оживилась старуха. – Смотри-ка, не узнала, ты, оказывается, вернулся? Жив-здоров?
– Вашими молитвами.
– Бог дал. Ай, какая радость для бедной Гайниджамал! Вот ведь, если жив человек, то рано или поздно вернётся к родному очагу.
Она потянулась в угол к старику – тот спал на сакэ, под жёлтой шубой:
– Стари-ик, встава-ай… Ахметвали вернулся…
Но жёлтая шуба оставалась неподвижной. Тогда старушка взобралась на сакэ и стала тормошить старика:
– Просни-ись. Ахметвали вернулся, к нам вот пришёл, встава-ай, целые дни спишь. Постарел, ох, постарел…
Наконец приоткрылся краешек шубы – старик Лукман приподнялся на локте. Широко раскрыв глаза, будто испугавшись, он молча смотрел на незнакомого человека в солдатской гимнастёрке.
– Здравствуй, дедушка Лукман, – улыбнулся тот.
– А кто это? – не узнавал старик.
– Ахметвали ведь, – ответила старуха. – Неужели не узнаёшь? Наш Ахметвали.
– А-а-а… Сын покойного Ахметгарея, значит?.. Та-ак.
Согнув длинные ноги в коленях, опираясь на руки, он передвинулся на край сакэ. Ахметвали положил узелок, обеими руками пожал руку сначала старику Лукману, потом бабушке Шамсинур. Старики, поднеся к лицу ладони, прочли короткую молитву, и бабушка Шамсинур заговорила дрожащим голосом:
– Ай сынок Ахметвали, ты же нам дорог, ты ведь был близким другом нашего Батырджана… Вместе росли, вместе уехали… Но тебе суждено вернуться, а вот он…
Слёзы переполнили её глаза, покатились по лицу, она прикрылась уголком платка, спадающего на плечи, коротко вздохнула:
– Ох!
А старик сидел спокойно. Положив на колени большие, обессилевшие руки, он сосредоточенно глядел на них, какой-то притихший, равнодушный. Ахметвали видел, как Лукман постарел, осунулся. Даже не постарел, а как бы совсем потух, обуглился, словно обожжённое молнией дерево…
О том, что Батырджан погиб, Ахметвали узнал ещё на фронте. Он получил письмо из полевого госпиталя от санитарки Сании. По тому отчаянию, которое чувствовалось в письме, понял, что Батырджан был очень дорог этой девушке. Но тогда было не до неё. Ахметвали тяжело переживал смерть своего друга и со страхом думал о том, как перенесут весть о ней старики Батырджана.
Теперь ему трудно касаться открытой раны этих осиротевших людей. Он забыл приготовленные слова утешения и, растерянный, обводил печальными глазами комнату, где всё было так знакомо: вот возле этого маленького столика в углу беседовали они с Батырджаном; столько раз перечитывали книги, которые стоят вон там, на той аккуратной полочке, сделанной руками Батырджана; столько раз вместе заводили вон тот красивый патефон… Всё по-старому, все вещи на своих местах, но потускневшие, с каким-то налётом печали, будто они тоже осиротели. «Да, горе большой утраты легло не только на стариков, – подумал Ахметвали, – даже стены избы словно закоптила эта печаль». Она угнетала его, давила. Вероятно, сами старики успели к ней привыкнуть, но вернувшийся с фронта солдат не мог примириться… «Нет! Копоть эту надо снять, соскрести», – решил Ахметвали. Он заговорил торопливо и просто:
– Вам тяжело… Я понимаю… Ко многим пришло большое горе. Но, что бы ни было, война закончилась нашей победой. Этому нельзя не радоваться. Лютый был враг, подлый. Эти звери ни стариков, ни детей не щадили. Вот от какого врага освободили мы страну! Легко сказать. Вы живы-здоровы, живёте, вижу, потихоньку, и колхоз, наверное, не забывает вас. Не правда ли?
Старик Лукман, приподняв голову, пристально глянул на Ахметвали. В тусклых глазах мелькнул недобрый холодок, обвислые губы зашевелились, но так и не произнесли ни одного слова. Не смог старик ответить, потому что горе и ненависть, пробуждённые в сердце словом «враг», нельзя передать словами. И Ахметвали, заглянув в эти холодно-стальные глаза, понял, что хотя в груди у старика и выгорело всё, но глубокая ненависть к врагу, отнявшему Батырджана, продолжает жить.
– Да!.. – сказал гость. – Велико горе, но есть и радость… Верно, бабушка Шамсинур?
Старуха, поправив платок, вздохнула чуть слышно.
– Ай, сынок Ахметвали, как тут не будешь благодарен Аллаху… Одинокими остались мы, вот скоро и помирать пора… Если бы не колхоз, куда бы нам деваться? Ведь вся деревня заботится. Нет, нет, жаловаться грешно, мы довольны, спасибо… Но, – старуха смолкла, стараясь подавить слёзы. – Тяжело, тяжело нам, душа надломилась… Никак не можем забыть, сынок Ахметвали. Вырастили единственного сына, уехал он и пропал. Остался ребёнок его, Батырджан. Этого берегли как зеницу ока, но теперь вот и он…
Слёзы не дают ей говорить – они обильно льются по морщинам. Беззвучно плачет бабушка Шамсинур.
Ахметвали, склонив голову, медленно проводит рукой по лбу, губы его сжимаются.
И вдруг тихонько звучит потухший голос старика Лукмана, разговаривающего как бы с самим собой:
– Не вернулся. Что ж поделаешь с ним?
Ахметвали вздрогнул. Не по себе стало ему от беспомощных слов старика, почудилась в голосе какая-то детская обида на внука, который не возвратился…
Ахметвали ещё долго сидел у них. Утешал, как мог. Но даже когда, передав бабушке Шамсинур принесённые чай и сахар, распрощался и ушёл, не мог освободиться от холодящих сердце слов старика Лукмана.
Хотя он, Ахметвали, пробыв четыре года на фронте, вернулся домой счастливым, окрылённым радостью победы, но всё-таки остро чувствовал, что война оставила тяжёлые раны, которые не так-то скоро затянутся. Ему хотелось сделать хорошее, доброе этим осиротевшим старикам. Он шёл и думал, как бы вывести Лукмана и Шамсинур из этой холодной тёмной пустоты, вернуть их к жизни.
2
Одряхлел старик, опустился, но чувствовал, что жизнь вокруг него продолжается. Деревня ожила. В эту первую послевоенную осень она принарядилась, посветлела. Те, кто уцелел на войне, вернулись домой. Стало больше мужчин, и кое-кто из тех, что помоложе, под горячую руку даже сыграли свадьбу. Весело шла осенняя уборка. Изголодавшиеся по мирной работе мужчины трудились на токах. Молотьба. Это был праздник. Особенно для женщин. А какой же праздник без шуток и смеха! И на осенний сев вышли мужчины. И хлеб государству сдавали мужчины. На подводах сидели парни в плащах, надетых поверх шинелей.
Всё видел старик Лукман, и встрепенулось его старое сердце. Ахметвали часто забегал к старикам, и весь дом их тогда заполнял его голос, но, к сожалению, ненадолго: пошумит-пошумит и снова торопится то в поле, то на гумно. С его помощью скоро сарай надел новую крышу, хотевшие упасть ворота встали на ноги. Завалинка наполнилась доверху землёй, привезли дрова.
И волей-неволей старику пришлось покинуть сакэ, пройтись по двору. Он ходил вокруг дома – посматривал, потрагивал: не нужно ли ещё что подправить. Ну а коли вышел, стал похаживать помаленьку, следом за палкой своей, и на ближнее гумно, и в кузницу…
Нет, оказывается, нельзя жить просто гостем, собирающимся на тот свет. Рановато. У него зачесались руки: всю жизнь не знавшие покоя, они просили работы.
Но люди, зная, что у старика большое горе, считали своим долгом оградить Лукмана от всех забот. Люди были добрыми. Только от их доброты старик чувствовал себя ещё сиротливее.
Вот и сегодня все ушли в поле, а Лукман в стороне. Ещё на зорьке поспешил он к правлению, долго вертелся около бригадиров, но все они, кто в шутку, кто всерьёз, говорили, что место его теперь в красном углу, что работы не хватает даже истосковавшимся по ней парням:
– Отдыхай, старик, отдыхай, натрудился уж, хватит.
– С нас – работа, с тебя – советы, бабай!
– Нельзя, Лукман-абый[15], нельзя, неудобно перед покойным Батырджаном, если тебя впряжем.
Что мог ответить старик? Перед Батырджаном, перед его дорогим сердцу Батырджаном, неудобно им. А Лукману тяжело, – ох, не знают, как тяжело ему оставаться наедине со своими думами. Давит на плечи тоска, на душе какая-то гнетущая, унылая тишь, как на пустых полях осенью. И думает он, думает, невольно предаётся мучительным воспоминаниям. Особенно, если день, как сегодня, погожий, а деревенская улица пуста.
Лукман, торопливо надев свою жёлтую шубу, выходит за ворота, присаживается на большой поседевший валун и сидит, засунув руки в рукава, подставив спину солнышку. Только осенью бывают такие неповторимые, тёплые, тихие дни. Радостное сияние солнца, глубокая голубизна неба – как летом. Но неподвижная тишина вокруг, будто сама природа, смежив глаза и устало опустив плечи, погрузилась в дремоту, и тающий, размытый горизонт говорит, что это лишь отставший от своих дружков последний ясный день.
И в такой вот день старик сидит без дела, наслаждаясь греющим по-летнему солнцем. А рядом порхает пёстрая бабочка, и думы его оживают, мечутся.
Вон из-за гор одно за другим медленно выплывают синеватые, с белыми краями, облака, и тени от них плавно скользят по округлым вершинам. Тихонько скользнут – и проходят, скользнут и проходят… И так же незаметно проходит жизнь… Далёкое прошлое пробуждалось в тихой, опустошённой душе Лукмана, сидевшего на седом камне, подставив солнцу спину. Нахлынули воспоминания. Проплывали они в памяти медленно, друг за другом, как облака. Вот его молодость…
Как и сегодня, полсотни лет назад, по этим вот склонам бежала, резвясь и весело журча, речушка. Там, где были затоны, становилась она угрюмой, текла неторопливо. А дальше вновь бежала, то светлея, радостно искрясь, то темнея, словно печалясь о чём-то. То над ней горделиво, богатырски нависала гора, то речушка убегала прочь, и тогда покрытые цветами склоны холмов смотрели в её смеющееся лицо.
Подбегая к деревне, речушка понемногу ширится, темнеет, становится глубже и, наконец, превращается в спокойную медлительную реку. Там – запруда, с одной стороны которой – красный от глины яр, а с другой приютилась у старого дуба маленькая, накренившаяся набок мельница под соломенной крышей.
На той запруде прошли детство, юность и вся жизнь старика Лукмана. Мельницей, оставшейся ему в наследство до коллективизации, пользовались только безлошадные мужички да овдовевшие старухи. Гарнцевого сбора[16] на жизнь не хватало, и поэтому Лукман весной и летом рыбачил, а зимой ставил капканы на зверя, прослыв в деревне хорошим охотником. К этой земле своих дедов, к этой речушке, которую они перегородили когда-то запрудой, старик был привязан сердцем, и неумолчный шум воды у мельницы звучал для него мелодичной, напевной сказкой. Вот по этой тропинке, протоптанной ещё его отцом от камня, на котором сейчас сидит старик, до запруды, ходил он восемьдесят лет и думал, что никогда не зарастёт она травой.
3
Когда Лукману перевалило за тридцать, он привёл к себе в дом молодую жену Шамсинур. Уже после того как поженились, пришла к ним любовь, и жили они дружно, в согласии. Народились одна за другой четыре дочки. Но ежегодно в деревне свирепствовала чёрная оспа. И девочки, одна за другой, сошли в могилу, остались в памяти лишь их имена. Здоровый, жизнерадостный мужчина затосковал, пока наконец Шамсинур не подарила ему мальчика. Этот уж должен был расти, не поддаваясь никаким болезням, потому и назвали его Тимерджаном[17].
Сын! Словно чистый, серебристый родник, пробивающийся из земли, бегущий вперёд и вперёд, через все преграды. Ах, как рад был Лукман мальчику, все свои надежды возлагал на Тимерджана. Откуда-то издалека, из глубины прошлого смотрит ему в глаза парень, стройный, как тростник, шапка набекрень, а лица уже не разглядишь… А детство этого парня совсем в тумане, лишь некоторые мгновения былого оживают перед глазами. Помнит он, как водил Тимерджана туда, на мельницу. Мальчик, как только встал на ноги, должен быть с отцом. Если будет расти в тепле, под материнским крылышком, станет слабым, изнеженным; его нужно вывести на ветер и дождь, на жару и холод, чтобы рос он здоровым и крепким.
Сейчас старик уже не помнит, но, кажется, именно так он думал тогда. Но хорошо запомнилось ему, как Шамсинур, потеряв покой, то и дело бегала к реке, беспокоилась:
– Где он? Что делает?
Лукман нарочно, чтобы попугать жену, отвечал беспечно:
– Даже не знаю. Только что тут был.
Шамсинур металась вокруг мельницы.
– Как это «не знаю»? Ведь он утонуть может. Нет, больше ты его с собой не возьмёшь.
Тогда Лукман успокаивал жену:
– Ну, ну, не тревожься, пошутил я. Вон твой Тимерджан, с горы камни катает.
А с вершины крутой горы смотрит на деревню похожий на шаловливого козлёнка простоволосый мальчишка в красных штанах и белой рубашке.
Шамсинур опять пугается:
– Ай, Аллам! Скатится ведь.
– Скатится, так снова поднимется. Пусть растёт на воле, – говорит Лукман, которому нравится, что сын его смел и проворен.
И Тимерджан действительно вырос на воле… Отец почти не видел сына около себя: живой, беспокойный мальчишка целые дни пропадал то на реке, то в горах – рыбачил и охотился. Лукман не ругал его, если тот приходил исцарапанный, вымокший. Только потреплет, бывало, жёсткие чёрные волосы: «Ах ты, маленький шурале[18], матери таким не показывайся».
Странно… Теперь ему кажется, что детство Тимерджана длилось какое-то мгновение, а не долгие годы… Постой… Постой… Когда это Тимерджан превратился в юношу? Будто случилось это внезапно… Да, Лукман помнит, как неожиданно понял он, что Тимерждан уже годен для настоящей, «взрослой» работы.
…Была зима. Кажется, конец февраля. Весело поблёскивали под солнцем лбы гор. Белые поля стали просторными, прояснились дали, от деревьев ложились на снег лёгкие голубые тени. Чувствовалось тёплое, влажное дыхание медленно приближающейся весны.
Вдвоём с Тимерджаном шли они, таща большие салазки, в лес, который вот за этими горами. Потом они часто ходили в тот лес, но этот день, когда впервые пошли вдвоём, навсегда врезался ему в память. С годами старику всё больше казалось, что этот день приснился, что не было его наяву. Да и сон-то какой сказочный… Так что сейчас Лукман уже не может сказать с уверенностью, был этот день или не было его.
Лес… Тишина. Такая тишина! Ни души, ни звука, ни шороха. Крикнешь, и голос твой, вздрагивая и звеня, уйдёт куда-то далеко-далеко, уйдёт и канет камнем, брошенным в воду. И спокойна опять поверхность, и снова – глубокая тишина, никто не проснётся, ничто не шелохнётся вокруг, даже какая-нибудь длиннохвостая сорока не вспорхнёт меж ветвей… Нет, хоть лопни от крика, а лес будто и слышать и знать тебя не хочет.
А сколько света! Словно бриллиантовой пылью осыпано, всё огнём горит; от пышного, как вата, снега отражаются солнечные лучи – смотреть невозможно.
Величие тишины и обилие света – было загадочно, как колдовство.
Тимерджан стоял заворожённый. Потом стряхнул с себя оцепенение. Ему захотелось помериться силами с лесом.
– Отец, я сам рубить буду! – И, проворно подоткнув полы бешмета за кушак, стал пробираться, проваливаясь по глубокому снегу. Вот он поплевал на ладони, вот его руки уже крепко сжимают короткое топорище. Взмах, и острый топор врезается в стройное тело спящей берёзки. Словно лопнула туго натянутая струна, такой звонкий крик уходит в самую толщу глубокой тишины – лес вздрагивает, с ближних деревьев осыпается несметное множество снежных искр. «Тук-тук, тук-тук», – голос рубящего топора бежит волнами в глубину леса и вдруг смолкает. Со стоном падает берёзка.
Лукман ходит за сыном, очищает стволы от веток. Работают они молча. Людская речь этому глухому лесу ни к чему, и отец и сын, словно боясь нарушить очарование лесного покоя, торопятся закончить рубку. Дрова укладывают на сани, и, отряхнув снег с одежды, они впрягаются в них. Потом, выбравшись из леса, останавливаются ненадолго и смотрят, вот он, лес, необитаемый, тихий и загадочный. Лукман приподымает шапку, и от посеребрённых волос идёт пар. А Тимерджан, засунув рукавицы за кушак, трёт снегом горящие руки. Да, рядом стояли, вместе дышали, – ай Аллам, неужели всё так было наяву, неужели это не приснилось? Может, потому что постоянно думаешь о нём, этот сон кажется явью? Нет, было, на самом деле было, стал ведь Тимерджан парнем!
Потом началась германская. Старик хорошо её помнит. И не сможет забыть. Рану оставила в сердце война…
Тимерджан был ещё очень молод, его не должны были призвать. Но душа Лукмана была неспокойной, пиявкой присосалась мысль: «Заберут, всё равно заберут…» Надеялся, что не успеют: может, война закончится. Но шли месяцы, годы, в деревне уже не оставалось путных мужчин, всё обветшало, поля покрылись бурьяном, даже стало меньше голубей и больше ворон, а конца войны не было видно. Слабая надежда погасла. И Лукман, то ли предчувствуя беду в будущем, то ли просто не желая, если заберут Тимерджана, остаться лишь вдвоём со старухой, решил женить сына.
Воле отца не перечат. И в самое хорошее летнее время, когда собирают первый мёд, когда уже подросли молоденькие барашки, Тимерджана женили на Зайтуне, справив шумную, весёлую (по военному времени) свадьбу.
Ах, жизнь! Быстро текут её годы. Вот они, те же годы, так же вода шумит у запруды… А сколько уже пережито за тридцать лет, кто только не приходил в этот бренный мир и не уходил из него. Подумаешь – диву дашься. Ну кто из гулявших на этой свадьбе остался жив? Он да его старуха, да вот ещё дом стоит и белый валун у ворот покоится. Больше никого и ничего не осталось. А ведь сам Лукман тогда был крепким, как столб у ворот, сильным, как лошадь. В день свадьбы он пел перед гостями, встав во весь рост на тарантасе, отбросив назад правую полу джиляна, подбоченясь. Пел, глядя на горы, а люди восхищённо слушали его, и потом раздалось со всех сторон:
– Афарин[19], ай да сват!
– Тысячу лет живи, друг Лукман!
– Ай старина, вот так спел!
Что же это была за песня, которую он пел тогда?
Ой, несутся облака, ой, проносятся,
Прикасаются легко к горам…
Или эта:
Пока молод, пусть ничто не остановит,
Как летящего над пропастью оленя…
Нет, уже не вспомнишь, забыл эту песню. Только не забывается однажды пережитое счастье. Светит старику издалека одинокой звездой женитьба Тимерджана, и отрадней становится на душе.
Помнит он, как в длинном чёрном казакине со стоячим воротником, в надетой набекрень шапке, опушённой мехом, Тимерджан, у которого только-только пробились чёрные усики, держа за левую руку Зайтуну, вот на этом дворе помог ей сойти с тарантаса на белый войлок. И Зайтуна, ступая по белому мягкому войлоку, вошла в этот дом невесткой.
Ай, Зайтуна, Зайтуна! Миловидная, застенчивая девушка, терпеливая, послушная молодая сноха. Сколько теплоты, сколько света принесла она в их маленький дом! Пусть земля ей будет пухом! Ведь он сам её сосватал своему Тимерджану…
Девушки ходили за водой к холодному роднику, что у запруды… Весело позвякивали на крашеных коромыслах вёдра, расписанные крупными цветами. К роднику шли принарядившись, позванивая монетками в косах; это было и развлечением, и своеобразными смотринами… Лукман растил парня и со своей мельницы внимательно поглядывал на чуткие стайки стройных, как молодые лани, девушек. Он заприметил одну из них, тоненькую, ступающую мелкими шажками. Движения её были несуетливы, но быстры. Иногда она попадалась ему навстречу. Девушка проходила мимо, прикрыв лицо платком, немного отвернувшись, опустив длинные ресницы.
Да, песня уже забылась, нет больше Тимерджана и Зайтуны, вошедших когда-то рука об руку в этот дом, и только выращенные Зайтуной фуксии, за которыми ухаживает бабушка Шамсинур, всё ещё стоят на подоконнике, а их висящие цветы похожи на слёзы…
Недолго длилось счастье. Буря не обошла молодых, война простёрла своё чёрное крыло и над ними. Когда первые снопы свезли на гумно и на току начали стучать цепы, Тимерджана забрали в солдаты.
Вот так. Зачем теперь и вспоминать об этом? Всё прошло… Пригревает солнце. Лучше ни о чём не думать, сидеть спокойно, закрыв глаза. И старик закрывает их и видит тёплое летнее утро, высокие прозрачные облака. На Тимерджане новый казакин, сшитый на свадьбу, красный кушак, шапка, надетая, как всегда, набекрень. Забросив на плечо дорожный мешок, он покинул свою деревню. Отец, мать и жена проводили его за околицу. Посреди пустынного поля все остановились. У Тимерджана вздрагивали губы, он молча попрощался сначала с матерью, потом с отцом. Постоял, прижав к груди Зайтуну, так ничего и не смог сказать ей, повернулся, ушёл. Ушёл, а трое остались на дороге. Стояли молча.
Как-то сразу поникла, увяла, будто сорванный цветок, Зайтуна.
– Терпение, дочка, – нарушил молчание охрипший голос Лукмана, – терпение. Бог даст, по этой же дороге назад вернётся. Встречать его тоже втроём выйдем. Ждать будем…
Ждали они долго. Навсегда запомнилась удаляющаяся фигура Тимерджана – шёл он, опоясанный красным кушаком, по дороге, вползающей на пригорок. «Кому нужна эта война?» – мучительно думал тогда Лукман, словно держал на ладони горящий уголь и не мог выбросить его.
Прошла осень шестнадцатого года, наступила зима, повеяло весной. Кажется, был конец февраля, нет, наверное, начало марта (у крыльца уже собиралась талая вода), когда Зайтуна родила мальчика. Его назвали Батырджаном, и все трое хотели, чтобы он был похож на отца. «Когда вернётся Тимерджан, как обрадуется, увидев сына», – думали они. К их домашней радости прибавилась и радость народа: в деревню пришло известие о свержении царя.
Не забудутся эти дни! Помнит, помнит Лукман, каким взволнованным пришёл он с шумной деревенской сходки, наклонился к люльке Батырджана:
– Ну как дела, батыр? Что лежишь-смотришь, острый глаз?! Отца ждёшь, а? Вернётся, Бог даст, вернётся теперь… Кончилось, всё кончилось: и война, и царь. Так вот, Батырджан, в мудрое время ты родился. Давай расти быстрее, мой орлёнок!..
Но ребёнок так и не увидел отца. Тимерджан погиб летом семнадцатого года где-то в окопах на польской земле. Принесли эту весть вернувшиеся осенью в деревню два старых солдата.
Долго не мог прийти в себя старик Лукман. Мучило его, что сын погиб, когда все ждали окончания войны. Когда уже думали, что всякая опасность миновала… Как же так получилось? Тяжело старику, но поддаваться горю нельзя: он мужчина, глава семьи. А Шамсинур от горя слегла. И Зайтуна, бедная, услышав о смерти мужа, как раненая птица, долго билась в отчаянии.
– Потерпи, сношенька, – успокаивал её старик, – потерпи. Что ж поделаешь, не к одним нам горе пришло.
И Зайтуна вытирала слёзы.
Он подходил к жене, тихонько опускал свою тяжёлую руку на лоб старухи:
– Ну, мать, как ты себя чувствуешь? Не выпьешь ли чаю с пастилой?
И вскоре Шамсинур встала с постели, понимая, что и ему тяжело, но сумел же он устоять против горя.
Так они, словно деревья, которые пригнула буря, стали понемногу выпрямляться, отходить.
Да, всё это – воспоминания, далёкие воспоминания. До сих пор прошлое не проходило так последовательно перед глазами старика, да и не хотел он возвращаться к нему. Сколько бы ни прожил человек, всегда он думает о будущем. Это так, но сегодня старик Лукман испил до конца чашу воспоминаний.
Когда жизнь вошла уже в свою колею, когда почти «выздоровели» от горя, Зайтуну свалил тиф. Тяжёлой была зима девятнадцатого года, из деревни своей не выехать, больница далеко, доктора нет… Старики не отходили от постели Зайтуны, но были беспомощны перед грозной болезнью. Ай, дорогая душа!.. Старик Лукман с радостью поменялся бы с ней местами, только бы она, Зайтуна, такая молодая, не уходила!.. Нет, когда голубые тени лениво пробуждающегося зимнего утра упали на заледеневшие окна, Зайтуна спала… И больше не проснулась. Ушла с улыбкой, освободившись от всего земного…
4
Вон там, на мосту, показалась пёстрая группа женщин. Идут обедать. Скоро и Ахметвали придёт. Старик смахивает слезу. Первая слезинка за столько лет! Оказывается, он ещё может плакать.
Жизнь! Как бы ни злились ветры, всё равно не сломить им сосны, выросшей на каменистой скале. Как бы ни бесновалась война, сея смерть, всё равно пришёл ей конец, всё равно победила жизнь.
Батырджан!
Ведь остался же он от Тимерджана и Зайтуны! Значит, у стариков ещё есть и надежда, и счастье. Дорогая душа, Батырджан, он помог им ожить, утешением был, отрадой. Не прервался их род, он продолжается, и нет силы такой, и не будет её, чтобы смогла оборвать цепь жизни…
Так думал старик – то была обновлённая вера Лукмана. У старенькой мельницы, держа мальчугана меж колен, положив свои жёсткие, узловатые руки на тёплый живот малыша, размышлял он о том же.
Те же горы и та же река…
И посмотришь порой – эти горы похожи на стадо, а ручей словно кнут пастуха. И ещё эти горы похожи на славных батыров, что пришли из далёких-далёких неведомых стран и вдруг замерли здесь, увидав шаловливую речку. Она приковала их взоры. Стоят великаны, оробев перед нею, стоят и любуются беззаботной и милой речкой, а та журчит и журчит им, ласково улыбаясь.
Да, словно от гор, от земли и воды начинался род Лукмана. И сурово стоят великаны, и нежная речка течёт. Сам он рос на этой земле. И за пазухой этих гор, как орлёнок, вырос, окреп Тимерджан, а теперь черёд Батырджана, того малыша, что стоит меж колен старика.
– Э-эх, быть бы здоровым, что такое тогда пятнадцать – двадцать лет, – не заметишь, как пролетят. Увидеть бы, каким славным парнем вырастет Батырджан!
Внешностью и характером внук похож был на покойную Зайтуну. Как у матери, мягкие русые волосы, тонкие брови, из-под длинных ресниц смотрят большие серые глаза. Нос и губы отцовские, на подбородке ямочка… Был он застенчивым, неразговорчивым ребёнком, не шалил, а всё вертелся возле бабушки с дедушкой. Способный, рано выучил азбуку и пристрастился к чтению.
Когда в школу пошёл, учился хорошо, с удовольствием. Старики нарадоваться не могли, но скучали без него, и в большую перемену бабушка Шамсинур приносила ему, прикрыв передником, в деревянной миске горяченькие картофельные перемячи, а Лукман сам нетерпеливо шагал за внуком в школу, когда тот задерживался после уроков.
Старик был доволен, что внук занят пионерскими делами, только не мог долго ждать его, скучал. Когда Батырджан находился рядом, у старика настроение поднималось, душа была спокойна, даже работал бодрее и потихоньку что-то напевал. Да и мальчик привязан был к деду, всё ходил за ним по пятам, рассказывал обо всём, чему его учили в школе.
Рос ребёнок. Зимой ходил в школу, а летом со сверстниками – на колхозную работу. Позже стал похаживать с парнями на гулянья к реке, застенчиво посматривал на девушек. Похож был на молодой кленок, идущий в рост. Когда же окончил среднюю школу, поступил в Елабужский пединститут. Хотел больше знать, мечтал стать учителем. Сильно привязан был к деду и бабушке, любил их и, как только закончил институт, сразу же вернулся в деревню. Должен был начать осенью преподавать в сельской школе, где раньше сам учился… Должен был… Но…
Война, война!
Старик, словно озябнув, подоткнул под колена края шубы. Губы его слегка зашевелились. Но чтобы высказать то, что было на сердце, не хватает обыкновенных слов, слишком слабы они. Как гром с ясного неба – война! Страшно стало старику.
В первые же дни войны Батырджан ушёл на фронт. Снова – на тот же запад, опять – против Германии! Старики держались, несмотря на то, что страшная тревога поселилась в их сердцах, тяжело им было. Жизнь прожита, после Тимерджана был Батырджан, а кто же останется теперь, если вдруг… Нет, нет, даже на секунду мысль об этом была невыносимой, страшной. И старик всю войну большим усилием воли гнал её от себя. Он работал, работал, не жалея сил. Потом старость отняла у него фартук мельника, и стал Лукман сторожем на мельнице. Глядя в ясные ночи на мерцающие звёзды, он думал-гадал, где сейчас, в каких краях ходит Батырджан, куда могла забросить его война, а утром спешил, торопился домой, надеясь, что ждёт его там прилетевшая издалека радостная весточка.
Четыре года прилетали эти весточки, прилетали часто: понимал Батырджан, как важно старикам знать, что он жив-здоров. Через многие испытания пришлось, наверное, пройти ему, но в письмах к старикам он не писал об этом – боялся их напугать.
Крепла надежда Лукмана… Бои шли уже на земле врага, все знали, что войне скоро конец. Скорей приходил бы этот долгожданный день…
Март. Тихо и тепло. Лениво опускался на землю мокрый снег. Деревенский почтальон вручил Лукману жёлтый конверт. Не зная, от кого это и что написано в письме, старик принёс его в колхозное правление. Там прочли бумажку и онемели… «Скрыть? Как же секретарь сельсовета (ротозей!) такую бумагу отослал прямёхонько Лукману?..» Старик стоял, опираясь на палку, посреди правления, глаза его требовательно вопрошали, что случилось. Лгать под этим остановившимся взглядом было невозможно. Председатель Суфиян, будто читая бумажку ещё раз, повертел её перед очками:
– Это, Лукман-бабай, о Батырджане…
– Ну! – сказал старик, умоляюще глядя в глаза председателю.
– Это, Лукман-бабай… Видишь ли, Батырджан ранен… и лежит в госпитале… Плохо…
– Договаривай!
Председатель положил бумажку на стол и медленно снял очки:
– Что сказать тебе, дедусь? Пока только это… Сам знаешь, война…
Судорога прошла по лицу старика, у него перехватило дыхание. С трудом выдавил:
– Батырджан… умер?
Суфиян опустил глаза. Взгляд старика тянул из него правду, как вытаскивают крепко заколоченный гвоздь. И Суфиян почувствовал, что нет сил скрывать. К обычно спокойному лицу его прилила кровь, сжатая в кулак рука легла на лоб:
– Проклятые… Ещё одного… Какого парня загубили!..
Какая-то женщина, чтобы не разрыдаться, выбежала из правления. Старик, медленно пятясь, опустился на скамью, но тут же быстро вскочил с неё:
– Нет, не может быть, это ложь! – Бессильно ударил палкой о пол. На какой-то миг он поверил в смерть Батырджана и тут же наотрез отказался от этой веры, не верил вопреки всему, назло.
Весть облетела деревню. Всем было жаль Батырджана, жаль стариков, и многие приходили сказать тёплые слова, утешить. Бабушка Шамсинур слегла, но старика даже такое тяжёлое известие не могло сбить с ног. «Нет, это ложь!» – говорил он и себе и людям. Лукман должен был отрицать – это упорное неверие было единственной его силой, способной противостоять горю. Стоило согласиться, стоило смириться старику, и жить больше было бы незачем, и словно бы сам он исчезал, растворялся. Но сколько ни упорствуй, а проходят недели, месяцы, и начинаешь постепенно верить в то, во что не хотел бы верить. На второй день после окончания войны старик понял: Батырджан умер, не вернётся, нет его – вот беспощадная правда. И, в конце концов, с ней поневоле должен был примириться Лукман. Примирился – и сразу почувствовал себя отрешённым от мира.
…Вот и всё. Надо идти в дом. Солнце стало клониться к горизонту, и дом бросил на старика свою тень. Сегодня, видно, и Ахметвали не придёт. В колхозе горячая пора. В такой погожий день все покидают деревню: кто – в поле, кто – на гумне, кто – в дороге. Широкая улица пустынна, тиха. А там, где поворот реки, пониже деревни, кружась, поднимаются в небо клубы сизой пыли. Взлетают высоко-высоко жёлтые соломинки. Там самый большой ток. Вот уже неделю день и ночь работает мощная молотилка. Сквозь монотонный шум воды у запруды временами слышно, как надрывается машина.
Да, после такой тяжёлой потери старик Лукман ещё ни разу не заплакал, не пожаловался, но и не думал ни о чём и ничего не чувствовал. Это страшно, когда человек умирает задолго до смерти. Что же всё-таки давало ему силы жить? Ненависть, которую не высказать, ненависть к врагу жила в нём, она стала душой, не желающей покидать его дряхлого тела. Жгучая ненависть!
И возможно, потому и остался старик Лукман на ногах, что не умерло в нём чувство ненависти.
Но для того, чтобы вернуться к жизни, одной ненависти мало.
Забота односельчан не давала старикам потерять голову от горя. Чьи-то руки не дали упасть, поддержали и, мягко подтолкнув, заставили шагать. Эти же руки до сих пор оберегают их. Вернулся Ахметвали, он заботится о стариках как родной сын, и вроде бы сил прибавилось у них, светлее стало.
Да и сам Лукман, руки которого давно тосковали по работе, снова стал трудиться, а труд исцеляет. Добрые люди наконец-то нашли ему дело. Пусть не из великих оно – Лукман стал шорником на дому: сшивает машинные ремни, которые приносит ему Ахметвали, режет гужи из сыромятины, чинит хомуты.
Уныло, медленно, спокойно проходили дни. Больше нечего ждать старикам, нечего желать… Но кто сказал, что в жизни чудес не бывает!
Это случилось в последние дни затянувшейся нынче осени. Деревья уже совсем оголились, речку уже затянул тонкий ледок, а поля и луга покрывались инеем. Земля терпеливо ждала снега. Молоденькая женщина, в пальто, перешитом из офицерской шинели, в белом платке, вошла во двор старика Лукмана. Прижимая к груди, она несла какой-то аккуратный свёрток.
Вошла в дом и встала на пороге, обнимая свою ношу обеими руками. Старик и старуха, растерявшись, смотрели на вошедшую женщину, и та негромко заговорила:
– Я, кажется, не ошиблась. Ведь это дом мельника деда Лукмана?
– Да, – сказала старуха. – А кто же ты будешь, дочка?
Женщина улыбнулась, глаза её увлажнились, и, глубоко вздохнув, она сказала:
– Я, бабушка, я… ваша невестка.
Бабушка Шамсинур вздрогнула и замерла, ничего не понимая. В это время широко распахнулась дверь, и появился Ахметвали…
– Послушай, Ахметвали, что говорит она, Господи! – обратилась к нему готовая заплакать бабушка Шамсинур.
А женщина услышала его имя и просияла:
– Вы Ахметвали-абый?
– Да, он самый.
– Я Сания. Помните, я писала вам о Батырджане?
– Да, да, помню, – кивал головой изумлённый Ахметвали.
– Как хорошо вышло, вы уж объясните старикам, – это Батырджан просил меня разыскать их…
Губы женщины дрогнули, она заплакала, отвернулась. Ахметвали поспешил подать ей стул.
Та осторожно положила ребёнка на сакэ (да, на руках у неё был ребёнок). Потом опустилась на стул и, достав платочек, вытерла глаза. Немного успокоившись, она рассказала старикам, кто она и зачем приехала.
Взволнованный Ахметвали смотрел то на бабушку Шамсинур, то на старика Лукмана. А тот всё сидел, опираясь руками о сакэ, какой-то ошалевший, рот его был приоткрыт, он словно только что проснулся и никак не мог понять случившегося.
– Слышите? – почти закричал Ахметвали. – Слышите, кто к вам приехал? Сноха ведь ваша, сноха!
– Сноха? – произнёс Лукман с каким-то детским удивлением.
– Да!.. Вот она, сестрёнка Сания – жена Батырджана. Были они вместе на фронте. Поняли? Она приехала к вам, с ребёнком, поняли, с ребёнком?!
– С ребёнком! – выдохнул старик.
– Да, да, с ребёнком Батырджана! Ух ты, мать моя, мамочка! Ну-ка, сношенька, показывай-ка его бабушке с дедушкой! – неистовствовал Ахметвали.
И улыбнулась невольно Сания. Приоткрыла беленькую простынку, а там лежал с соской во рту трёх-четырёхмесячный младенец. Он безмятежно спал. Все тут же склонились над ним. Бабушка Шамсинур быстро-быстро шептала молитву, а старик Лукман шевелил губами, силясь что-то сказать. Его твёрдые, узловатые пальцы осторожно потянулись к личику ребёнка. Он хотел прикоснуться… Но вдруг плечи его задрожали, – он плакал. Все на мгновение притихли… Вот когда наконец-то пришло к нему счастье заплакать!
Ахметвали нервно прошёлся по комнате, остановился, тихонько спросил Санию:
– Девочка или мальчик?
– Мальчик.
И ему самому захотелось плакать, но не так, как старик, не согнувшись, а расправив широкие плечи и кому-то грозя кулаком, и он ходил по комнате взад и вперёд, словно тесен ему этот дом, словно чувству его трудно здесь уместиться.
…Не сломленный в ненастье, старик Лукман до сих пор на ногах. Иногда, ведя за руку трёхлетнего правнука, он приходит к запруде. Обычно в солнечные дни, когда небо светло-голубое, просторное-просторное. Мягкий, тёплый ветерок с юга. Монотонно шумит вода. Старик Лукман присаживается на камень, ставит меж колен мальчишку и, устало положив на его тёплый живот большие руки свои, долго смотрит на горы, где много лет назад играл его Тимерджан. Медленно плывут голубоватые облака с белыми краями, и тени их плавно скользят по округлым вершинам.
1948
15
Абый – старший брат, дядя. Почтительное обращение к мужчине, старшему по возрасту.
16
Гарнцевой сбор – плата за помол и переработку зерна.
17
Тимер – железо.
18
Шурале (миф.) – лесной дух.
19
Афарин – браво.