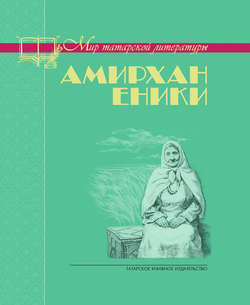Читать книгу Невысказанное завещание (сборник) - Амирхан Еники - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Красота
ОглавлениеДавно это было, очень давно, но я, как сейчас, вижу трёх маленьких шакирдов[21], едущих из уездного медресе домой. Мы с Гилемдаром держали путь в деревню Чуаркуль, а Бадретдина должны были оставить в деревне Ишле. Пегая кобылка, неторопливо трусившая в упряжке, принадлежала отцу Гилемдара. В деревне мы жили бок о бок, поэтому весной за мной и Гилемдаром родители наши присылали лошадей по очереди.
Бадретдин – наш случайный спутник. До сих пор нам как-то не доводилось возвращаться вместе, хотя мы собирались в медресе и разъезжались в одно время. Когда прекращались занятия, Бадретдин предпочитал ехать домой с кем-нибудь из односельчан, прибывших в город на базар, или же топал за тридцать вёрст на своих двоих. На этот раз мы упросили его ехать вместе.
Бадретдин был самым бедным у нас в медресе. Из дома ему не помогали, лишь изредка мать присылала с оказией маленький узелок из грубой холстины, в котором всегда были пшённые лепёшки или кусочек масла. Принимая гостинец, Бадретдин всякий раз смущённо повторял: «Ну зачем же это? Скажите маме, я вовсе не голодаю, пусть не присылает последнее». Масло это он ел обыкновенно шилом. А когда удивлённые товарищи спрашивали, почему он так делает, Бадретдин с улыбкой отвечал: «Шилом его долго ешь!»
На родной стороне, как говорится, и воробушек не пропадёт. Так и наш Бадретдин. Частенько приходилось ему ходить с пустым желудком, но учёбу он не бросал. Да как ещё учился! Давно, впрочем, было замечено, что шакирды, знававшие нужду, оказывались старательными учениками. Богатый, будь он последним тупицей, мог околачиваться в медресе сколько ему вздумается, а бедняку плохо учиться нельзя, иначе не продержаться и до первой весны. Только труд и усердие могли прокормить его.
Вот и нашему Бадретдину перепадали порой из байских кошельков кое-какие гроши. Он помогал отстающим готовить уроки, выполнял поручения учителей, переписывал для больных молитвы. Словом, ни минуты не сидел сложа руки. Однако сам он никогда не просил помощи.
По природе своей Бадретдин был терпеливым и уравновешенным. Он не умел льстить, никогда не зазнавался, с хорошими людьми сам бывал хорош, а от плохих держался в стороне. При всей своей бедности, он терпеть не мог быть чем-либо обязанным своим товарищам, даже если дело касалось самой незначительной услуги. Напротив, другие сами то и дело обращались к нему с просьбами, потому что в его самодельном сундучке чего только не было: и иголка с ниткой, и напёрсток, и шило, и перочинный нож, и пинцет, и зеркало, и цветные карандаши, и тетради, и даже клей с воском. Как он умудрился собрать всё это богатство, оставалось для нас загадкой. Вероятно, ему частенько приходилось отказывать себе в еде. Правда, он не всегда мог купить дорогие толстые учебники, зато немногие свои книги берёг как святыню, аккуратно обёртывал их в серебристую бумагу.
В те годы, накануне революции, интерес шакирдов к литературе особенно возрос. Книги были для нас как хлеб, как воздух. Каждый переписывал в толстую тетрадь песни, стихи, а то и целые страницы из романов. Каждый второй из нас сочинял стихи. Очень многие увлекались модным тогда поэтом Сагитом Рамеевым. Ему подражали, спорили до хрипоты, отстаивая его идеи, читали наизусть. Но нашим общим кумиром, любимейшим наставником неизменно оставался Тукай. Авторитет его никто не смел оспаривать. Никого не заучивали так много, никого не читали с таким восторгом.
И Бадретдин сочинял стихи, но не хвастал ими, не читал каждому встречному. Когда же его просили прочесть что-нибудь, он соглашался не сразу. В стихах его не было беспомощного хныканья, как у других. Он просто и сдержанно писал о природе или же в коротеньких четверостишиях своеобразно философствовал о жизни.
Вот каким был наш однокашник Бадретдин, странноватый, чуть-чуть таинственный, а в общем-то, довольно симпатичный парнишка.
Да… Но я, кажется, немного отвлёкся, ведь сейчас мы втроём сидим в плетёном тарантасе и весело трясёмся по дороге в деревню, не так ли? Пыли нет, дорога ровная, лениво бежит кобылка, слышен только мягкий стук её копыт: цок-цок, цок-цок… Совсем недавно, в середине мая, прошли первые дожди. Всё вокруг ожило, принялось буйно расти: пошла в трубку рожь, густой тёмно-зелёной порослью поднялась пшеница, а яркая трава на целине успела скрыть сухие прошлогодние стебли, и уже зацвели ранние цветы… Вон по сторонам дороги розовеют первые колокольчики вьюнка… Словом, природа была в самом расцвете нежной юности!..
Мы были безмерно счастливы, что снова вырвались на этот лучезарный простор, он исцелял и успокаивал нас; казалось, мы никогда не надышимся его ароматами, не наглядимся на его красоту.
Вначале мы то и дело вылезали из тарантаса, бегали по мягкой траве, гонялись друг за другом, рвали цветы. Бадретдин нашёл дикий лук. Мы нарвали его пучками и тут же принялись жевать. Я наломал стебли растения, которое у нас в деревне называли «лакомкой». Мы с наслаждением грызли их. Бадретдин сказал, что башкиры называют эту траву «жениховой плёткой», потому что бутоны её в конце длинного гибкого стебля распускаются голубыми цветами, и тогда она в самом деле похожа на плётку с кисточкой.
А длинноногий Гилемдар всё носился в поисках сусликов, он даже пробовал тихонько насвистывать, подражая им, но хитрые зверьки не желали выходить из норок. Нам так и не удалось посмотреть, как забавно встают они на задние лапки, навострив ушки.
Пели жаворонки. С бездонного неба волшебным дождём лилась музыка. Знаете ли вы, в чём очарование песен жаворонка?.. Когда он заводит свои трели, над землёй простирается задумчивое безмолвие, словно природа, всё живое с упоением внемлет одному ему, испытывая тихую радость. И рождается удивительное ощущение, будто мир стал просторней, светлей. Земля, в бесконечном небе которой маленькой точкой трепещет неугомонная пташка, наполняется удивительным покоем…
Не знаю, поют ли в это время другие пернатые, но голос кукушки не могли заглушить даже звонкие трели жаворонков. Странная, невидимая птица! Она будто создана природой, чтобы напоминать людям о чём-то важном. Грустный, предостерегающий голос её, долетавший из далёкого леса, мы слушали затаив дыхание.
Наше путешествие близилось к концу, мы подъезжали к Ишле, длинной полосой вытянувшейся в долине у подножия красноватых гор. Ещё в начале пути Бадретдин пригласил нас заехать к нему на чашку чая. Мы не стали отказываться. Гостить у однокашников было принято среди шакирдов.
Перед въездом в деревню Бадретдин взял вожжи, завернул лошадь вправо от дороги и по ровному ковру кудрявой низкорослой травки направил её в самую дальнюю улочку деревни. Через некоторое время мы подъехали к дому, одиноко стоявшему в стороне.
Мы знали, что едем к бедным людям, но увиденное превзошло все ожидания. Кривой, ветхий домик наполовину врос в землю. Соломенная крыша его прогнила, почернела, брёвна разъехались. Зеленовато-тусклым цветом отливали стёкла в окнах. Ворот не было, забора тоже, только со стороны поля и улицы дом был обнесён двойным рядом жердей… В высокой траве, заглушившей дворик, трещали и копошились кузнечики. Всё говорило о том, что в хозяйстве не было никакой живности.
Мы старались скрыть от Бадретдина свою растерянность. Тарантас въехал во двор и остановился перед жалким сарайчиком с плетёными стенами. Из дома вышел небольшого роста человек с рыжей бородой на худом бледном лице. Одет он был в холщовую рубаху, грубые домотканые штаны с заплатами на коленях, на ногах – поношенные лапти с онучами, на голове – выцветшая тюбетейка. Он подошёл к тарантасу, сдержанно поздоровался с Бадретдином, сказав ему: «Сынок!», потом молча пожал нам руки и принялся распрягать лошадь…
Подхватив свой сундучок, Бадретдин быстро зашагал к дому. В дверях мелькнула и скрылась какая-то женщина. По-видимому, это была мать Бадретдина. Только почему же она так быстро ушла в дом?
Пока мы хлопотали возле лошади, Бадретдин вынес ведро с водой, ковш и полотенце. Мы умылись тут же во дворе, поливая друг другу. Невольно подумалось, что у хозяев нет даже кумгана[22], который столь привычно видеть в каждом доме.
Нам с Гилемдаром никак не удавалось справиться с растерянностью: надо было делать вид, что мы ничуть не удивлены, беззаботно болтать о чём-нибудь, но слова не приходили на ум. Однако мы заметили, что сам Бадретдин ничуть не был смущён.
Умывшись, мы вошли в дом и громко поздоровались. Отец Бадретдина очень просто пригласил нас: «Проходите, шакирды».
Изнутри изба выглядела столь же неказисто, как и снаружи. Но бревенчатые стены её сияли почти восковой желтизной, а корявый, щербатый пол был старательно вымыт… Под окнами, занимая добрую половину избы, высился покрытый войлоком сакэ, вдоль стен стояли лавка и два стула, у печи – колода – вот и всё убранство дома. В закутке, отделённом от горницы старой занавеской, кто-то щепал – было слышно по звуку – длинные лучины.
Первый, кого мы увидели, переступив порог дома, был седобородый старик в белой одежде и в облезлой иссиня-чёрной бархатной тюбетейке. Он сидел в дальнем углу сакэ, прислонившись к стене.
Мы протянули старику руки, но тот даже не шевельнулся. Бадретдин торопливо сказал:
– Дедушка, шакирды хотят поздороваться с тобой…
– Разве? Что ж, слава Аллаху… – сказал старик, немного оживившись, и протянул нам большие, шершавые ладони.
Он был слеп. Мы сели, прочли молитву и, степенно сложив руки на коленях, как нас учили в медресе, замерли. Нам неловко было начинать разговор первыми. Но хозяева, к нашему удивлению, тоже не выказывали ни малейшего желания говорить. Старик сидел прямо и неподвижно, углубившись в какие-то свои думы. Бадретдин беспокойно ходил по горнице, собираясь, видимо, что-то сказать и не находя слов… Отец его некоторое время неподвижно сидел на колоде, уставясь перед собой пустым взглядом, потом встал и начал приготовления к чаю. Он расстелил на сакэ старую домотканую скатерть, достал с шестка три чашки, из которых одна была склеена из черепков, а у двух других недоставало ручек, выставил завёрнутую в тряпицу половину хлеба, принёс стакан молока. Покончив с этим, он сел на прежнее место. Бадретдин достал из сундучка две пригоршни сахара.
Вскоре из-за занавески послышался тихий голос:
– Готово, сынок!
Бадретдин прошёл в закуток и вынес древний самовар с залатанными ручками и носиком. Он велел нам подняться на сакэ. Мы послушно сели, скрестив ноги. Перед нами появилась сковорода с дымящейся яичницей. Однако хозяева, видимо, не собирались разделить с нами трапезу: и старик, и отец Бадретдина с безучастным видом продолжали сидеть на своих местах.
Бадретдин повернул лицо к занавеске и ласково сказал:
– Мама, ты уж сама разлей нам чай…
– А отец?.. – спросил всё тот же тихий голос.
– Отец?.. Нет, лучше ты… – В голосе Бадретдина звучала самая искренняя мольба.
За занавеской ненадолго притихли, потом к нам вышла женщина в лаптях, грубом холщовом платье и таком же переднике; ситцевый платок её был надвинут на самые щёки, голова низко опущена. Она прошла к сакэ и села за самовар.
Я увидел её лицо и похолодел от ужаса. Левый глаз был совсем закрыт, а правый, огромный, немигающий, дико таращился. Вероятно, она перенесла жестокую оспу. Лицо было так изуродовано, что мне до сих пор тяжело вспоминать его.
Какое-то смешанное чувство отвращения и жалости охватило меня. Я не мог отделаться от странного ощущения, что огромный печальный глаз без бровей и ресниц – открытое окно, через которое каждый мог бесцеремонно заглянуть в душу бедной женщины.
Немногие из нас рискнули бы показаться рядом с родной матерью, будь она так же безобразна. Людям свойственно стыдиться уродства близких. Неужели Бадретдин не понимает этого? Или он умеет скрывать свои чувства?
Женщина наполнила чашки и протянула их нам, стараясь прятать лицо за самовар. Мы пили чай в полной тишине, не решаясь оторвать взгляд от чашек.
– Пейте, друзья, закусывайте. Не обессудьте, чем богаты, – угощал Бадретдин, и голос его звучал по-прежнему ровно, спокойно.
Выпив чаю и подкрепившись яичницей, мы поспешили опрокинуть чашки вверх дном. Бадретдин вздохнул, досадуя, видимо, на бедность, и вскочил на ноги.
– Я покажу вам свои книги, – сказал он и достал с небольшой полки над окном стопку книг.
Наконец у нас появилось какое-то занятие, и мы с радостью принялись рассматривать сокровища Бадретдина. Здесь было несколько новых романов, сборники стихов, учебники на арабском и персидском языках. Мы листали книги, обменивались незначительными замечаниями о них.
– У меня, друзья, есть для вас ещё кое-что, – сказал Бадретдин и достал с той же полочки маленькую скрипку. То был плохонький самодельный инструмент из некрашеного дерева.
– Откуда она у тебя? – воскликнули мы удивлённо.
– Да вот пытался сам смастерить, – ответил Бадретдин и стал настраивать скрипку, извлекая из неё дребезжащие звуки.
Мы знали, что он неплохо играет на мандолине. Но скрипка!..
– Бадри, почему ты скрывал, что умеешь играть на скрипке? В медресе мы раздобыли бы тебе скрипку нашего Сагита! – сказал Гилемдар.
– При таком музыканте мне лучше помалкивать, – улыбнулся Бадретдин.
Он довольно долго промучился со скрипкой, которую давно не брал в руки. Тут я отважился ещё разок взглянуть на его мать. Она смотрела на сына, и всё существо её излучало столько любви и тепла, что я был тронут до глубины души. Можете ли вы понять меня, можете ли представить удивительный взгляд матери, в котором светились и любовь, и гордость, и умиление, почти молитвенный восторг перед чудом, творцом которого она была? Ведь этот маленький шакирд, который непременно станет большим и уважаемым человеком, – её детище! Это она родила его и вскормила своей грудью!.. Я поспешил опустить глаза, на которые навёртывались непрошеные слёзы.
Наконец Бадретдин настроил скрипку и приложил её к плечу. Скрипка пела слабым голоском, но нам было приятно слушать её. Все сидели очень тихо, боясь спугнуть печальную песню, которая так уместна была в этом бедном жилище, где самый воздух, казалось, дышал безысходной грустью. Тоска угадывалась и в позе белого старика, застывшего на сакэ, и во взгляде отца, задумавшегося возле печки. А мать влюблённо смотрела на сына, и лицо её светилось счастьем.
Бадретдин неожиданно обратился к ней:
– Что тебе сыграть, мама?.. Раньше тебе нравилась вот эта. – И он заиграл протяжную мелодию старинной народной песни о студёном ключе. Играя, он не сводил глаз с рябого, перекошенного лица матери. Нет, Бадретдин не стыдился её. Взгляд его серьёзных и чуть печальных глаз был полон благодарной сыновней любви и величайшего уважения.
Когда он кончил играть, мы попросили разрешения прочитать перед дорогой молитву. В ответ хозяин молча потёр залатанные коленки, а Бадретдин, обратившись к старику, сказал:
– Дедушка, шакирды просят благословить их.
Старик кивнул, и мы воздели руки…
…Заросший травой дворик остался позади, наша лошадка трусила уже по проезжей части улицы. Бадретдин с отцом стояли у изгороди и смотрели нам вслед. Мы мысленно прощались с ними, с их домом, самым бедным в Ишле, с его большой и непонятной нам тайной. Трудно сказать, что это было: трагедия или же, напротив, великое счастье, озарённое светлой надеждой. Счастье, которое мы бессильны были постичь.
Солнце клонилось к закату, а жаворонки всё пели и пели, взвившись высоко в поднебесье. И песни их были протяжней и взволнованней прежнего. Мир просторен, пуст, необъятен! Грустно… Я не могу забыть лицо матери Бадретдина. Хочется кому-то грозить кулаком и кричать: «Неправда, она прекрасна, пре-крас-на!..»
1964
21
Шакирд – ученик религиозной школы.
22
Кумган – металлический рукомойник, кувшин с носиком, ручкою и крышкою.