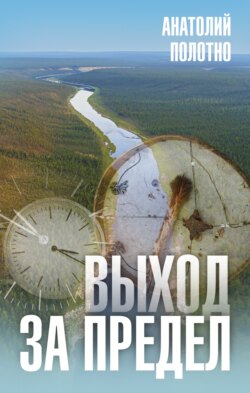Читать книгу Выход за предел - Анатолий Полотно - Страница 13
Часть I
Глава 13. Брагин
ОглавлениеВсе его так и звали – Брагин. Хотя его настоящее имя-отчество было Иван Тимофеевич Кошурников. Открыл его, вначале – для себя, потом – для Москвы, а уж позже – и для всей страны, Сафрон Опетов. На Всероссийской выставке выпускников художественных училищ, которая проводились ежегодно, Сафрон обратил внимание на одну работу. Картина была настолько необычна по композиции, по цвету, по манере письма, что он невольно застыл около нее. Полотно было обрамлено не модным тогда багетом, а рамой из обычных, неструганых реек. К тому же вместе с корой.
Но не рама украшала картину, она лишь дополняла диковинную и все же живую природу русскую. Безусловно, у парня были предшественники великие – и Васнецов, и Суриков, и Врубель, и Ге, да и многие другие. Но был в нем и яркий, самобытный талант – дар Божий. Сафрон связался по телефону с дирекцией Кировского художественного училища, узнал, есть ли у их выпускника Кошурникова Ивана еще работы. Ему ответили, что работ у него много, но вряд ли имеются в наличии. Это еще больше заинтересовало Сафрона. Оказывается, этот самородок с первого курса училища после каждых каникул организовывал в общежитии, где он жил, «персональные выставки». А по прошествии двух недель раздаривал все картины – кому какая понравится.
Сафрон все же попросил руководство училища поискать и прислать несколько работ в Москву вместе с автором. Те поискали, поскребли по сусекам и прислали их вместе с Иваном. Сафрон встретил его на Ярославском вокзале столицы и повез к себе домой. Парень среднего роста с волнистыми русыми волосами, в кожаном пальто с поясом и в солдатских ботинках оказался большим оригиналом.
– Иван Брагин, – представился он на вокзале Сафрону, вцепившись в его руку, как в спасательный круг.
– А что, Кошурников – творческий псевдоним, что ли? – удивленно спросил Сафрон.
– Нет, это моя фамилия, а Брагин – прозвище, которое прижилось в училище, – ответил тот.
И по дороге рассказал Сафрону, что он повадился ставить бражку по праздникам в общаге, а она всем пришлась по душе и по вкусу – дешево и сердито. Вот и стали к нему за этой бражкой похаживать и днем и ночью. Ночью – чаще. Так и прозвали его Брагиным. Красиво, говорит, и вкусно. Не то, что «самопляс». Самогон, значит – от него дуреют люди, да и невкусно.
Потом, уже дома у Сафрона, Брагин рассказал, что родился он в Усолье, близ Соликамска с Березниками в Пермской области. С детства любил рисовать букашек всяких, лягушек, рыбок, а братьям и сестрам они очень нравились.
– Бывало, нарисую стрекозу на камыше или кузнечика на травинке, или птичку на веточке, а те ко мне: «Ванька, а куда они полетят, поскачут?» А я и сам не знаю…
Или вот речку нашу, Каму, нарисую. На покосе, будто как она за поворот да за горизонт утекает. А они мне снова: «А куда Кама течет?» В море, отвечаю, все реки в море текут. А вот что Кама наша в Волгу впадает – неправда это. Батя наш рассказывал, что когда плоты с лесом сплавлял, видел, как и Сылва в Каму впадает, и Чусовая, и Белая, и много-много других рек и речушек – все они в Каму впадают, и Волга тоже в Каму впадает, потому как полноводнее Кама-то Волги!
А на сенокос ранехонько вставать надо – часа в три. Потому как далеко идти нужно. Часам к четырем-пяти только и будешь. Близко-то покосы не давали, колхозные все. Вот мы всем семейством и ходили далече, и батя с мамкой, и братья, и сестры, и молодухи – жены старших. Придем да по росе и косим. А как жарко становится – все в тень. Там скатерть-самобранку мамка с сестрами да с молодухами расстелят. Выставят на нее, что бог послал. Поедят все да и лягут, отдыхают. Мы, понятно, поближе к мамке. А от нее молоком пахнет, – грудью малых-то кормила. А от свежескошенной травы – дурман медовый: тоже мамка подстилала, чтобы мягче лежать-то было. Да как затянут песню – раздольную, мелодичную, красивую такую да добрую шибко: даже теплую будто… Тут и прикорнешь, и поспишь малехо. А сквозь сон и песня волшебной становится, ласковой такой, доброй. И голос мамкин, такой далекий-далекий, все ближе, ближе: «Вставайте уж потихоньку, сорванцы мои, помощники дорогие, работать ведь надо, жар-то спал. Вставайте да бегите вон в Каму окунитесь, освежитесь перед работой».
А папка как-то позвал весной – картошку все сажать наладились, да и говорит: «Ванятка, мы тута сами управимся. А ты сбегай в Соликамск. Там, говорят, артель пришла с Вятки, церквы подымать будут. Так ты им покажи зверушек, художества эти свои, может, че путное скажут». А в Соликамске такие дивные храмы стоят, такая сказочная красота небо подпирает и надежду подает людям, радость.
Ну, я и пошел в Соликамск пешочком. Прибился там к той артели, через них и в Вятку попал, Киров ныне. И в училище художественное меня взяли без экзаменов: директора-то артельские знали, да и он – их. Взяли меня в училище, дали общежитие и стипендию назначили. Вот и учился четыре года. А теперь вот распределение получил – на Пермский ремонтный завод художником-оформителем, там квартиру обещают, – рассказывал Иван Брагин Сафрону уже дома, за чаем. А когда развернул холсты привезенные, и Сафрон сам увидел все то, о чем ему Иван поведал. И не только увидел – почувствовал, будто услышал с картин.
И Соликамск с дивными белыми храмами… И Усолье его родимое… А вон и отец на покосе – открытое русское лицо, загорелое, в капельках пота. Следом сыновья старшие споро работают литовками – крепкие, надежные. А вон и мамка его в тени деревьев с ватагой ребят помладше: и каравай хлеба нарезанный, и банка молока на расстеленной скатерке. Вон молодухи со старшими сестрами, статные, красивые, вяжут снопы. И Каму великую, чистую и рыбную, увидел Сафрон. И болота клюквенные в следах оленей да медведей, след которых шапкой не накроешь. Тайгу вековую уральскую увидел, с синичкой-сестричкой на ветке кедровой, а рядом вон рябчики любопытные свистят по-вечернему робко. Ветерок рябит по лесному озеру, уставший к ночи. По берегам дрозды причитают испуганно. И глухарь боязливый уходит с опушки за капалухой в лес, а дятел-желна все стонет протяжно, стонет тоскливо… Косач-тетерев с чуфышканьем спустился на ток. За ним другие гусары-черныши, прямо рядом со скрытом (схроном) на поляне уселись. Распустили шикарные лиры-хвосты, токуют, подпрыгивают, крыльями хлопают: «Чуфык-чуфык». Бормочут что-то и дерутся жестоко за первенство. Брови ярко-красные, глаза блестят. И увидел Сафрон весь Урал с седыми лесистыми горами, и Сибирь-матушку, необъятную да не высказанную – со своим Тобольским кремлем. И всю Россию увидел Сафрон на холстах этих. Поднялся, подошел к Ивану, обнял его и проговорил негромко: «Ты, Ваня, приляг пока на диване, отдохни с дороги, а я отъеду ненадолго. Дела, брат, у меня неотложные есть», – и ушел.
Сафрон Евдокимович был вхож во все властные московские кабинеты. С кем надо – поговорил, кого надо – отблагодарил, подмаслил и через неделю выбил для Ивана Кошерникова мастерскую в чердачном помещении трехэтажного дома в Замоскворечье. Помог Брагину обустроиться и ссудил деньгами на первое время.
Сафрон Опетов не был меценатом, он просто очень любил живопись. И очень неплохо разбирался в ней. Он был постоянным посетителем всех художественных выставок, а некоторые из них сам и организовывал. Он мог оценить талант авторов выставляемых работ, их самобытность и мастерство. Но такой дар, как у Брагина, он увидел в первый раз в своей жизни. Такого самородка редчайшего он откроет на такой же выставке провинциальных художников два года спустя. И того молодого парня из Казани будут величать Константин Васильев. Когда он увидит его картину «Человек с филином», не то что не сможет оторваться от картины, он не сможет отойти от нее целый час. Он найдет автора, познакомит его с Ильей Влазуновым, и будет ждать скорого восхождения на национальном художественном небосклоне новой ярчайшей звезды.
Но Илья, безусловно, оценивший талант Кости, отнесется к нему довольно прохладно, – ревность ведь бывает не только в любви. А скоро Константина Васильева не станет на белом свете – он погибнет под Казанью. Так его звезда и закатится, не успев взойти. Он только-только нащупал свою тему, но не успел раскрыться в полную силу своего таланта-дара, оставив после себя четыре-пять по-настоящему гениальных картин. По мнению Сафрона, это «Случайная встреча», «Ожиданье», «Владыка лесов» и первая из них, несомненно, «Человек с филином». Сафрон помог организовать музей Константина Васильева в Казани и в Москве, провел ряд посмертных выставок и все. Хотя в те годы и этого было чрезвычайно много.
А Иван Брагин обустроил свое новое жилище-мастерскую, и в ближайшую субботу надел чистую рубаху, выглаженные брюки, ботинки свои солдатские почистил, подпоясал плащ кожаный и отправился в соседний магазин-гастроном. Купил ящик «Старки», приволок его во двор, где жильцы дома мужского пола играли в домино. Поставил на стол играющих, потом достал из кармана два граненых стакана и тоже поставил на стол. Обвел взглядом оцепеневших, застывших с доминошными костяшками в руках игроков и серьезно произнес: «Здорово, мужики. Я художник с Урала, ваш новый сосед Иван Брагин, будем знакомиться».
К вечеру Ивана знали все жильцы трехэтажного дома, на чердаке которого располагалась мастерская. Потому как остальные мужчины вышли к столу с недостающими стаканами и женщины со скромной закуской. И молодежь подтянулась, и старики. Да и старушки – и те не побрезговали «Старочкой»: «Вот ведь сладенькая-то какая, зараза!» И баян вынесли, и песни попели, и без драки обошлись. Наутро следующего дня мужики-соседи наведались было к Ивану в мастерскую с ответным угощением опохмеляться, да Иван их вежливо отвадил, сказав, что работает, а когда он работает, то не гуляет. Мужики отнеслись к этому с пониманием и ушли за свой столик освежаться: «Пусть работает парень, по всему видно, большой талант в нем обитает, чего мешать-то». Так и повелось – когда работал Иван, к нему никто не наведывался, не мешал. А уж как заканчивал работу, то сам выходил в народ: «Наш-то гулять-то пошел, мужики, бросай доминошки!»
Сафрон Евдокимович, частенько навещавший Брагина, только удивлялся: как же легко и плодотворно тот работает! При этом новые картины не страдали качеством от количества. Все полотна были в единой стилистике, но абсолютно разные по содержанию, неожиданные, непредсказуемые: былинно обворожительны, сказочно красивы, интересны. Когда их накопилось штук за двадцать, Сафрон спросил у Ивана, как бы он назвал экспозицию из этих картин?
– «Шукшинские были», – ответил Иван, – я ведь Василия Макарыча сильно уважаю, наш он мужик, незлобливый, правдивый и веселый. И кино у него такое же – «Калина красная». «Печки-лавочки» и рассказы – тоже. Вот по рассказам-то его и писал, что в голову взбредет. А нынче закончил последнюю и гулять пойду, Сафрон Евдокимович.
– Ты потерпи, Ваня, до вечера, вместе и погуляем, – весело проговорил Сафрон и уехал.
Вечером в дверь мастерской громко постучали.
«Мужики соседские, наверное, почувствовали, что гулять наладился», – подумал Брагин.
Открыл дверь и глазам не поверил. На пороге стоял Василий Макарович Шукшин с мешкообразной сумкой в руке и Сафрон за ним – с саквояжем. Иван растерялся, а Шукшин поставил котомку у порога, протянул ему руку и сказал: «Ну, здорово, летописец былинный, кудесник-затворник. Веди, показывай – Сафрон вон уже все уши про тебя прожужжал, – и, пожав руку, добавил: – Василий».
– Иван, – торопливо представился в ответ Брагин с восхищенной улыбкой.
Потом перевел взгляд на Сафрона и заулыбался во весь рот:
– Ну, спасибо, Сафрон Евдокимович, за нежданную встречу, за радость великую. Конечно, меня чуть кондрашка не стукнул, очень уж неожиданно, но спасибо от всего сердца за очевидность.
– Веди давай, Иван, времени мало, благодарить позже будешь, если будет за что. Я ведь порою-то с норовом и отматерить могу – когда что не так, – перебил Шукшин.
– Проходите, проходите, Василий Макарович, – опомнившись, заговорил Иван и повел гостей в центральную залу. Так он величал застекленную центральную часть своей мастерской. На дворе стоял теплый август. Заходящие лучи солнца мягко освещали помещение.
– Хороший вид у тебя, Иванушка, из окна-то, – проговорил Василий Макарович, глядя в окно.
Через большие витринные стекла была видна древняя замоскворецкая церквушка – как на ладошке, с сиянием золоченых крестов на куполах. Шукшин оторвался от окна и повернулся к картинам, расставленным вдоль освещенной стены на треногах, на пюпитрах, на подставках, на полу и развешенным на стене до самого потолка. Он замер. Сафрон с Иваном молчали. Василий Макарович медленно двинулся вдоль стены вправо, потом обратно – до конца, остановился там и спросил:
– А ты когда с Алтая-то вернулся, Иван?
– А я и не бывал на Алтае, Василий Макарович, – ответил тихо Иван Брагин.
– Да как же не был, Ваня, это же мои родные Сростки, это же Катунь моя, на которой я рыбу ловил, это же мой Алтай – да сказочный какой, необычный!
– Василий Макарович, так у нас в Усолье, на Урале, такая же природа красивая: пышные травы, сочные, как и во всей России, – попытался ответить Иван.
– Ваня, какой Урал, какое Усолье на хрен. Я же тебе говорю, это Сростки мои, где я родился и вырос, Катунь, где я все свое детство босоногое провел. Это Алтай мой неповторимый, Ванечка, а это соседи мои, земляки деревенские, – зашумел Шукшин, повернулся, подошел к Ивану, обхватил его руками. – Я хоть в искусствах этих, живописаниях, ни черта не понимаю, но чую в тебе талант огромный, дар Божий, – потом посмотрел на Сафрона и добавил: – Да, Сафрон, не обманулся ты – в Иване невероятной силищи Дар. Сходи-ка ты, Сафрон Евдокимович, в прихожку, я там где-то авоську на всякий случай приволок. Неси сюда – праздновать будем.
И они все вместе пошли гулять с размахом и от души.
А через час, когда выпили и поговорили о картинах, о родных местах – алтайских, сибирских, уральских, – перешли на другие темы. Говорил, в основном, Василий Макарович. С жаром говорил, с убежденностью. Он по натуре своей и энергии был центром пространства. Где бы ни находился, все начинало двигаться вокруг него, как чаинки в стакане. Часов в девять вечера, не договорив о чем-то, он вдруг спросил:
– А че так тихо-то у тебя, Иван?.
– Так ведь хорошо это, когда тихо да мирно, – ответил Брагин.
– Хорошо, хорошо, Ваня. У тебя что, телефона нет? – опять спросил Шукшин.
– Есть, Василий Макарович, поставили не так давно. Сафрон Евдокимович постарался, – ответил Иван.
– А че никто не звонит? Ну-ка, тащи его сюда, Ваня, – потребовал Василий Макарович.
Иван принес телефон цвета слоновой кости на длинном проводе – тоже Сафрон постарался. Шукшин стал крутить диск, набирая какие-то номера. И через час привезли в мастерскую разную еду из ресторана, спиртные и прохладительные напитки, а заодно и раскладные столы со свежими скатертями, и стулья. А еще через час на этих стульях сидели цыганки в разноцветных платках с бубнами и цыгане в атласных рубахах с гитарами из театра «Ромэн» во главе с худруком Николаем Сличенко и пели задушевные цыганские песни. А на соседних стульях появились, украшая стол, молодые актрисы каких-то театров и кино – симпатичные, озорные, с точеными фигурками под кримпленовыми платьями. А еще через час приехал Андрей Тарковский с двумя очень красивыми девушками, по-видимому, тоже мечтающими стать актрисами. Василий Макарович уже в качестве экскурсовода демонстрировал им картины Ивана, а Брагин без тени смущения сопровождал гостей и толково объяснял, если спрашивали. Атмосфера была праздничная, но не шумная, как отметил про себя Сафрон, наблюдавший за происходящим. В два часа ночи он с Тарковским и барышнями засобирался восвояси, позвав и Шукшина. Но тот отказался.
– Езжайте, ребятки, а мне и здесь хорошо, – ответил он, поглядывая на актрис в кримпленовых платьях.
Они и уехали, а за ними и цыгане со своим предводителем. К утру угомонились, улеглись где попало, а в двенадцатом часу дня Василий Макарович с Иваном уже топали в соседний магазин-гастроном, по выражению Шукшина, за лечебными снадобьями. Проходя мимо большого общего стола во дворе дома, за которым соседские мужики уже играли в домино, освежившись, Иван поздоровался с ними. И Шукшин – тоже. А тех будто зацементировали при виде Василия Макаровича, они не могли даже «мама» сказать, не то что здороваться.
Примерно такая же картина наблюдалась и в магазине-гастрономе. Все: и продавцы, и посетители – словно окаменели. Такая тишина наступила. Слышно было только негромкий разговор Шукшина с Брагиным.
– Василий Макарович, давайте «Старочку» возьмем, – говорил ласково Иван.
– Да нет, Ваня, это не интеллигентно – с утра «Старочка». Будем реанимироваться «Рябиной на коньяке» – это вещь! – отвечал Шукшин.
– Ну, как скажете, Василий Макарович, – так же ласково вещал Иван, и, уже обращаясь к продавцу, продолжал: – Нам бы две «Рябины на коньяке», ну и две «Старки».
Когда они возвращались из магазина-гастронома с полной сумкой снадобья и провизии, соседские мужики так и сидели без движения, зацементированные, с костяшками в руках. И после того случая во дворе Брагина Ивана стали величать не иначе как по имени-отчеству: Иван Тимофеевич.
Когда во второй половине дня приехал Сафрон, за столом, кроме Шукшина, Ивана и молодых актрис в кримплене, сидели Георгий Бурков и Георгий Данелия, а грузинский мужской вокальный ансамбль пел а капелла на голоса очень мелодичную народную песню про маленькую девочку: «Патара, чемо патара гогона, чемо патара имедо, чемо патара…» На столе дымился аппетитный шашлык. Горячий лаваш дарил хлебный запах, а сыры, помидоры и зелень свежая радовали взгляд. А уже следом за Сафроном на пороге появился Вахтанг Кикабидзе, будущая суперзвезда советского кинематографа, а пока просто барабанщик ансамбля «Орэра». Он появился с огромным букетом роз, непонятно кому предназначенных, и с большим чемоданом чачи и прекрасных грузинских вин из Тбилиси. Сафрон Евдокимович понял, что надо спасать Шукшина и Ваню Брагина.
Взял телефон на длинном шнуре и вышел с ним в соседний отсек мастерской. Позвонил Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной, переговорил с ней о чем-то и вернулся обратно. Василий Макарович опять в качестве экскурсовода демонстрировал картины Ивана молодому красавцу Бубе Кикабидзе – так его называл Данелия. Иван, как и прежде, сопровождал Шукшина и гостей без тени смущения и весело комментировал свои картины, когда экскурсовод давал ему слово. Потом продолжилось застолье с длинными, витиеватыми грузинскими тостами и застольными песнями. Потом приехала по указанному адресу и русская красавица Лидия Николаевна – жена Василия Макаровича. Ее усадили в центре стола рядом с мужем, и букет роз Бубы Кикабидзе нашел свою обладательницу. Шукшин будто бы и не удивился появлению жены, а просто спросил:
– Лидка, как ты меня нашла, где адрес раздобыла?
– Сорока на хвосте принесла, поехали домой, Васенька, – ответила она.
– Не хочу домой, мне здесь нравится. Смотри, какие дивные картины, Лидка, это же чудо какое, – проговорил Шукшин и повел ее к картинам.
Георгий Бурков, молчаливо сидевший рядом, поднялся следом.
– А откуда вы родом, Иван? – спросил он стоявшего рядом Брагина.
– Из Усолья Пермской области, мы с вами земляки, Георгий Иванович, – ответил Иван и чуть улыбнулся.
– Усолье… Недалеко от Березников, что ли? Я же там работал в драмтеатре, – оживился Бурков.
– Я знаю это, Георгий Иванович, я и на спектакле был с вашим участием. Нас, школьников, возили на автобусе в Березники, – глядя внимательно на Буркова, ответил Иван.
– Забавно. Вот же дороги судьбы! – сказал Бурков, а потом, повернувшись к Шукшину, проговорил: – Вася, поехали домой, завтра съемки.
– Какие съемки, Жора? Завтра мы с Иваном уезжаем на Алтай, я уже билеты заказал, скоро привезут, – провозгласил Шукшин.
– Как на Алтай, Васенька, а съемки? – удивленно спросила Лидия Николаевна.
– Так на Алтай. Давно дома не был, на Родине. Будем там с Иваном картины рисовать, спать на сеновале и бражку попивать медовую. Отоспаться мне надо, Лида, понимаешь, отоспаться хочу – так заебало тут все! Морды эти отвратительные, вечно недовольные. Бляди эти бездушные, резиновые. Начальники хуевы – домой хочу, в чистоту, в природу, в детство хочу, в юность. К мамке хочу прижаться, молока хочу с пирогами картофельными, как у Ваньки на картинах, полной грудью дышать хочу. Завтра, Иван, мы с тобой улетаем отсюда к едрене фене и больше не вернемся назад, нечего тут смрадом этим дышать!
Многоголосое пение стихло, и все примолкли. Шукшин стоял в центре зала, подбоченившись и, недобро насупившись, поглядывал на присутствующих. И тут в дверь постучали. Иван пошел на стук и вернулся с Зельцманом, администратором Мосфильма.
– Здравствуйте, товарищи, – притворно радостно произнес он, – Василий Макарович, ваше поручение выполнено, вот билеты.
Шукшин подошел к нему вразвалочку, взял билеты и поднял их над головой.
– Вот, все видите, мы завтра с Ваней улетаем на Алтай! – произнес он уже весело. – И больше сюда не вернемся никогда. А сейчас наливай, Георгий, своей чачи на посошок.
Отдал Ивану авиабилеты и подошел к столу, где сидели Данелия с Кикабидзе. Выпил налитый стакан чачи не чокаясь и ушел не прощаясь. Лидия Николаевна и Георгий Бурков второпях попрощались со всеми, извинились и побежали за ним.
Вскоре и гости засобирались. Ушел и Сафрон с кримпленовыми актрисами театра и кино. Иван проводил всех, убрал со стола, открыл окна настежь и улегся спать. Разбудил его ранний телефонный звонок.
– Алле, Иван, это Шукшин, – услышал он в трубку, – не получится у нас на Алтай, съемки у меня. Вот закончу картину, тогда и поедем. Хорошо у тебя, Иван, тихо, и картины хорошие. Ты билеты сдай, а деньги себе оставь, небось, безденежьем хвораешь? Я тоже хворал по первости-то сильно. Ну, бывай, душа-человек. Извиняй, если что не так.
Иван тоже положил трубку. Взял пакет с собранным со столов хлебом и полез по лесенке на крышу через специальный люк. Сел на шиферный конек и стал крошить и раскидывать хлеб птицам, думая про себя: «Как же тяжело-то ему, Василию Макаровичу. Книжки надо писать, и сценарии, и режиссировать надо, и снимать, а еще и самому играть надо. И все надо понимать, знать, чувствовать, видеть. Сколько же ему Бог дал, – и ведь не откажешься! Тащить надо это все, все выполнить надо, оправдать, надо донести – не растрясти. Спросят ведь потом – и за душу бессмертную, дарованную, чистую, которую при рождении обрел, ответ надо держать: в каком виде возвращаешь? И за дар, большой и тяжкий, ответить надо жизнью. Такой дар кому попало не дают. Держись, Василий Макарыч, держись – раз тебе доверили».
Спустился обратно в мастерскую Иван и принялся с пылом за работу – погулял – и будет.
Задумал он новый цикл картин под названием «Лукоморье».
Целый месяц работал неистово, с азартом и интересом великим. Сходит в магазин-гастроном за хлебом да за колбаской, и опять работает. А мужики соседские окликнут его из-за стола:
– Что, Иван Тимофеевич, за хлебушком пошел?
– Да, вот за хлебушком, да чай кончился с сахаром, – ответит Иван и идет себе дальше, думает. А мужики продолжают стучать доминошками своими. Раз в неделю к нему Сафрон Евдокимович приезжал, смотрел работы с интересом, не хвалил, не ругал, а просто смотрел и уезжал. Правда, раз поговорили они.
– Импрессарио тебе нужен, Ваня. Промоутер, как на Западе, продюсер, что ли, – сказал Сафрон Евдокимович. – Человек, который договаривается с галереями, организует выставки твои, продвигает работы, раскручивает имя и продает картины.
– Наверное, нужен, Сафрон Евдокимович, сам-то я ничего не знаю, да и, по правде, не умею ничего, кроме, как рисовать. А где их искать, продюсеров-то этих? – спросил Иван в ответ.
– Я подумаю, Ваня, присмотрю, может, кого, а когда сам могу попробовать этим позаниматься, если ты не против, – задумчиво произнес Сафрон.
– Да я даже и мечтать не мог о лучшем кандидате. Если только вы возьметесь, Сафрон Евдокимович, – я буду вам так признателен, благодарен и счастлив, – пылко произнес Брагин, нервно вытирая руки о фартук и не зная, что сказать еще.
– Тогда по рукам? – спокойно спросил Сафрон.
– Конечно, по рукам, Сафрон Евдокимович, – радостно произнес Иван, еще раз вытер от краски руки о фартук и пожал протянутую. Так у Ивана Брагина появился продюсер-импрессарио, а у Сафрона Опетова – подопечный художник-самородок. Иван чуть не пошел гулять с радости по такому поводу, но посмотрел на новые работы и принялся с удвоенной силой писать, писать, и писать дальше.
Второго октября, уже под вечер, без звонка приехал Сафрон. Поздоровался и молча прошел в мастерскую. Сел напротив новой картины и проговорил: «Шукшин умер, Ваня. На съемках умер. Бурков его в каюте нашел».
Иван замер. Потом молча вымыл кисти, палитру, убрал краски с мольберта и опустился рядом с Сафроном на стул. Они сидели и молчали. Потом Иван проговорил:
– А он ведь мой земляк.
– Кто, Ваня? Василий Макарыч? – спросил Сафрон.
– Нет, Георгий Иваныч Бурков – он из Перми, – ответил Иван, и они снова замолчали надолго.
Сафрон встал и сказал:
– Ну, я поеду, Ваня. Не хотел по телефону сообщать, вот и заехал.
– Я провожу вас, Сафрон Евдокимович, – сказал Иван, снял фартук, накинул плащ и двинулся за Сафроном. Когда его машина скрылась за поворотом, Брагин направился в магазин-гастроном, купил там четыре бутылки «Перцовки» и бутылку «Рябины на коньяке». Вернулся в мастерскую, зажег свечу на столе, поставил рядом два стакана. В один до краев налил «Рябины на коньяке», в другой – «Перцовки» и начал пить.
Пил он долго, до похорон. А как похоронили Василия Макаровича на Новодевичьем, бросил. Отошел немного от пьянки и стал писать с неведомой ему до этого страстью – до самоистребления. Закончил Иван свой цикл «Лукоморский» под Новый год. Исхудал весь, а глаза горят. И опять гулять наладился, в народ собрался. А Сафрон еще раз внимательно посмотрел на картины, расставленные да развешанные.
– Подожди, Ваня, гулять. Презентацию «Лукоморья» устроим. Многих людей интересных соберем, вместе с ними и гулять пойдем. И, знаешь, еще что, Ваня… Ты бы звал меня просто Сафрон. Не такая уже большая и разница в возрасте у нас.
Брагин посмотрел на Сафрона своими горящими глазами.
– Мужики мои соседские из-за стола доминошного величают меня Иваном Тимофеевичем, хоть и младше я их вон насколько. Не в возрасте тут дело. Зауважали они меня, как с Шукшиным увидели. Все потому, что шибко уж Василия Макарыча любили и уважали. Вот и мне одолжили уважение-то от него: на, Ванька, да смотри не посрами. Так что возраст здесь ни при чем, Сафрон Евдокимович. Такие уже традиции на Руси наши.
Презентация началась в 20-х числах декабря и закончилась 15 января – уже нового года. По сути, она не отличалась от «персональных выставок» Ивана в кировской общаге. Но по составу посетителей отличалась и очень даже разительно. Сафрон сумел заинтересовать работами Брагина, да и им самим, всю так называемую культурную Москву. А поскольку в те времена знаменитости и знать состоятельная не могли ездить за границу в роскошные фешенебельные отели на теплых морях, большинство из них и проводили новогодние праздники, включая Рождество и старый Новый год, в Москве или в Подмосковье. И только самые незанятые богатеи летали в Крым и в Сочи. Да к тому же официально отмечали только Новый год, а все остальные праздники праздновали, так сказать, без отрыва от производства.
Под вечер у Ивана в мастерской собиралось и правда очень много интересного народа, который прознал, что хозяин чем-то обворожил недавно ушедшего Шукшина, да так, что тот напоследок и мастерскую ему выбил в центре, а не в спальном районе. Приходило много знаменитостей вселенского масштаба. И Сафрон только удивлялся, глядя на Ивана, его учтивости без раболепства, гостеприимству без пристрастности, радушию и простоте общения с ними. И «великие» становились с Иваном немного другими, чем обычно. Видимо, соскучились по простоте и искренности. Особенно Сафрона удивлял Андрей Тарковский – бычно нелюдимый, весь в себе. Нельзя сказать, что совсем закрытый, но все же… Андрей не любил тусоваться, а в мастерскую Брагина приходил через день да каждый день. Иван встречал его с ковшом шипучей медовой бражки, а Тарковский пил ее, жмурился да передавал ковш веселым подругам своим.
В один из таких вечеров Сафрон отозвал Брагина и произнес:
– Ваня, я очень рад, что Андрей Тарковский, кажется, полюбил твои картины – смотри, ведь каждый вечер у тебя.
– Так, Сафрон Евдокимович, он у меня и днем бывает частенько. Позвонил однажды, спросил: «Можно, я у тебя поработаю?» и стал приезжать.
– Очень интересно, Ваня. И о чем же вы говорите? – удивленно спросил Сафрон.
– Да ни о чем. Я рисую, он что-то пишет в уголке, шуршит бумагами. Никто никому не мешает. Как-то раз спросил меня Андрей Арсеньевич: как бы я в одном образе жизнь отобразил? Я и ответил, что в виде обнаженной женщины. Он хмыкнул и опять давай бумагами шуршать… Часа три что-то писал, а, прощаясь, сказал «Спасибо» и попросился еще прийти. Вот и приходит, когда время есть. Я ведь, Сафрон Евдокимович, Андрея-то Арсеньевича тоже сильно уважаю. Как увидел «Иваново детство»… А уж когда «Андрей Рублев» вышел, так я совсем и не знал, что делать с собой. А тут такое счастье – созерцать самого.
– Молодец ты, Ваня. И говоришь правильно, и ведешь себя со всеми одинаково, – проговорил Сафрон.
– А я ведь не змея, Сафрон Евдокимович, у меня ведь не два языка. Со всеми и говорю одним, – ответил Брагин.
– Он, Ваня, сейчас над «Зеркалом» работает, Андрей-то наш. Места себе не находит. Ты помоги ему, Ваня, – сказал Сафрон, глядя на Тарковского из-за шторки.
– Да как же ему помочь-то? – спросил Брагин.
– Молча, Ваня, молча, как и прежде. Пойдем-ка к гостям, – ответил Сафрон, и они пошли.
Сафрон все последнее время без суеты устраивал отдельные произведения Ивана на проходящих в Москве выставках. Некоторые картины определил недорого – в запасники провинциальных галерей. А главные, наиболее удачные полотна, попали в частные коллекции знатоков за очень приличные деньги. Вот Иван и перестал «хворать безденежьем». Он вообще любил тратить деньги, а они, видимо, любили его – молодого парня, художника с Урала, Ивана Тимофеевича Кошурникова-Брагина. Столы во время презентации «Лукоморья» ломились от яств, «Старки» с «Рябиной на коньяке», а поскольку были новогодние гуляния – то и от «Советского шампанского».
Наступил Новый год. Приближалось Рождество, которое тогда усиленно замалчивали в Союзе, борясь с религией вообще и с православием, прежде всего. Гостей в мастерской сильно прибавилось, и Сафрон стал переживать, что все не поместятся, подумывая, куда бы перенести следующую презентацию Ивана. А Брагин был очень благодушно настроен и ничуть не переживал. Напротив, днями, когда никого не было, он смастерил небольшую сцену, обтянул ее бархатной материей темно-синего цвета и установил в центре зала, напротив витринных окон своих. По краям поставил две нарядные елочки в гирляндах, а на стене, за «сценой», разместил очень живописную картину «Рожество Христово» – именно так называли староверы этот светлый праздник. Картина была очень масштабной, выполненной в русской стилистике. Ели с шишками на ветках и снегири на них, сугробы в синих тонах, замерзшая речка с переходами и перилами в инее, а за ними гора сказочная с пещеркой. В пещере-хлеву Иисус-младенец в яслях – кормушке для животных. Тут же изображены овцы, ослики и корова, Богом посланные. Родители Христовы Мария и Иосиф, волхвы с дарами, ангелы сверху. А на все это благолепие льется свет Вифлеемской звезды. Несмотря на размеры, картина не разрушала экспозицию «Лукоморья» и не довлела. А подсвеченный храм за окном, в сугробах и уже настоящих сверкающих крестах, лишь объединял все в единое целое: величественное, торжественное, праздничное.
Седьмого января Сафрон приехал пораньше – встречать гостей и был так удивлен увиденным, обрадован и растроган.
– Ваня, да как же тебе удалось все так устроить-то красиво? – спросил он, пораженный.
– Так праздник большой, Сафрон Евдокимович, вот и украсил немного, – ответил Брагин, радуясь реакции Сафрона.
Гости собирались к семи вечера. Первым пришел Андрей Тарковский с подругами, подарками и привел с собой Иннокентия Смоктуновского, который не был задействован в вечернем спектакле. Они приехали с Мосфильма, где Смоктуновский озвучивал новую картину Тарковского «Зеркало». Познакомили его с Иваном, осмотрели экспозицию «Лукоморье», и Иннокентию она понравилась, даже очень.
– Знай наших, сибирских, – произнес он и заулыбался.
Потом приехали Андрей Миронов и Юрий Никулин с женой. Остальные именитые гости чуть задержались. У всех было приподнятое, праздничное настроение и желание общаться. Осматривали выставленные картины, обсуждали увиденное, поздравляли автора, а потом уселись за стол. И тут Сафрон опять был удивлен не меньше прежнего. На импровизированную сцену поднялись церковные певчие в рясах и, перекрестившись на храм в окне, запели «Рождество Христово – ангел прилетел». Да так ладно запели, искренне, от души, не показушно. Когда песня закончилась, гости, не зная, что делать, зааплодировали. А певчие, нисколько не обращая внимания на аплодисменты, продолжали исполнять Рождественские песнопения. Отпели свое, опять перекрестились на храм и тихо покинули сцену.
Началось застолье. Праздничные тосты, поздравления, веселые разговоры и шутки. Часов в десять на сцене появились два мужичка – один высокий, лысенький, другой низенький, с густой рыжей шевелюрой, и стали меж собой разговаривать о чем-то так же, как и певчие, нисколько не обращая внимания на именитых гостей. Зато гости обратили на них внимание и стали прислушиваться, притихнув. Мужички на сцене будто о чем-то спорили.
– Кто это такие? – спросил Сафрон у сидящего рядом Ивана Брагина.
– Это наши усольские врали, – ответил Иван и опять заулыбался, довольный, а Сафрон поднялся и пошел к выходу.
– Да не мог ты Гитлера украсть, – возмущался низенький мужичок в пиджаке, надетом на видавший виды свитер, в серых брюках, заправленных в сапоги, – ты был на Украинском фронте, а ставка Гитлера в Белоруссии находилась.
– А я говорю, что украл и тащил его, супостата, через болота тамошние, – невозмутимо отвечал высокий в короткой душегрейке поверх рубахи.
– Хорошо, и сколько же он весил? – снова спросил низенький.
– Да как баран твой Борька, я его через Камушку с пастбища тащил, – проговорил длинный невозмутимо и отвернулся.
Низкий оббежал его, замахал руками и опять:
– Когда это ты Борьку мово таскал через Каму? Да даже тебе, долговязому, не перейти через Каму вброд.
– А я говорю, что переходил и Борьку твоего тощего, как Гитлера, в репьях волок на хребтине, – пробасил высокий и опять отвернулся.
– Чего это мой Борька тощий, как Гитлер? Это ты тощий и долговязый пустобрех, а мой-то Борька упитанный, толстый! Во какой!
Низенький развел руки в стороны.
– Во какой, говорю, мой Борька! Как жинка твоя толстенная Варька. Как ты ее прокормить-то умудряешься своим пустобрехством? Только врать и можешь да хари гнуть.
– Да моя жинка тяжелее твоего Борьки и Гитлера вместе взятых. Я ее тоже таскал через Каму один раз, устал да и бросил насередине. Так она до Каспия доплыла на спинке, как русалка. А там ее рыбаки в сеть взяли и отправили обратно в Усолье посылкой, – отозвался высокий.
– Посылкой отправили. Да где они такой большой ящик-то нашли? – возмутился низенький.
– А они ее в гробу прислали, в стандартном. Положили и прислали наложенным платежом, – невозмутимо проговорил длинный и опять отвернулся.
Именитый народ уже не просто улыбался, как вначале, вежливо, а хохотал от души. Брагин тоже смеялся со всеми, пока не заметил, что многие стали оборачиваться к выходу.
Он тоже обернулся и увидел, как Сафрон усаживает за край стола Владимира Высоцкого с Мариной Влади и Валерия Золотухина с какой-то симпатичной девушкой. Больше Иван уже не слышал вралей. Он был шокирован – сам Высоцкий садился за его стол. В мастерской Ивана не звучала никакая музыка, кроме песен Высоцкого и хорового пения, которое тоже он почему-то очень любил. Он любовался песнями Владимира Высоцкого, как прекрасными картинами, мудростью их, простотой и гениальностью одновременно. Он любовался его диковинными словами и рифмой. Он удивлялся правде этих слов, истине, заложенной в них. Он поражался точности интонаций его удивительно выразительного голоса, не актерского – голоса улицы, голоса народа, голоса жизни. Он цитировал его часто про себя: «На полу лежали люди и шкуры, пели песни, пили меды и тут…»
И тут он, Высоцкий, сам лично сидит за столом, в черной водолазке и в красивом пуловере из верблюжьей шерсти, улыбающийся, и наливает шампанское в бокалы своей рукой, которой пишет такие замечательные песни. Высоцкий наполнил бокалы и с любопытством поглядывал на вралей, вещающих со сцены, тихо что-то объясняя Марине.
Отдельные гости с неудовольствием поглядывали в их сторону, другие радостно кивали и приветствовали вновь прибывших. Лишь врали, не обращая внимания ни на кого, продолжали спорить меж собою. Когда они закончили выступление, их проводили бурными аплодисментами, и к притихшему Ивану подошел Сафрон с гостями.
– Вот он, автор наш, виновник торжества. Познакомьтесь, Иван Кошурников, он же Брагин, – представил Сафрон несчастного, съежившегося Ивана Высоцкому, Влади, Золотухину и его подруге.
Иван поднялся и пожал протянутую руку Высоцкого, а потом Золотухина.
– Брагин – это псевдоним, что ли? – спросил Высоцкий.
– Нет, это побрякуха, прозвище, то бишь. Так у нас в Усолье говорят, – ответил негромко и сдержанно Иван.
– Надо же, как точно – побрякуха – приладили. А эти двое кто, молодцы такие? – опять спросил Высоцкий.
– Эти двое – врали. Я их от себя из Усолья выписал. Обещал сводить в мавзолей Ленина, вот они и согласились приехать, да, как сами говорят, хари погнуть перед честным народом, – уже с легкой улыбкой проговорил Брагин.
– Хари погнуть? – засмеялся Высоцкий. – Это ж надо, Марина. Есть у вас такие мастера хари погнуть в Парижах-то?
Он перевел на нее взгляд.
– Нет, нет, Володя. Такие мастера только у вас в России возможны, – с умной улыбкой и легким акцентом ответила Марина.
– То-то же! – произнес Высоцкий, – ну, веди, показывай свои шедевры, Иван. Тут вся Москва уже гудит о самородке русском с Урала.
И все направились к картинам. Показывая экспозицию, Иван опять коротко комментировал, если спрашивали его, но, в основном, говорил грамотно и красиво Сафрон Евдокимович. Который с Высоцким, оказывается, был коротко знаком, как и с Влади, и с Золотухиным, и со всеми именитыми гостями мастерской. И они, похоже, сильно уважали Сафрона за какой-то неведомый Ивану талант – за деньги уважают по-другому. Высоцкий задержался у крайней картины, потом подошел к компании и произнес: «Да, похоже, крепко я ошибался, когда писал, что Лукоморья больше нет и все, о чем писал поэт, просто бред. Вот оно, Лукоморье-то, живое-живехонькое, никуда не делось. Просто не видим мы его за суетой на земле нашей прекрасной, сказочной. И хоть я немного и понимаю в живописи, хочу сказать тебе, Иван – ты мастер большой руки. Да и чудак большой руки. На тебя скоро пойдет и Москва наша, и вся Россия-матушка повалит, и заграница их заглядываться будет, никуда не денется».
Он перевел взгляд на Марину Влади:
– Правда ведь, милая?
– Да, это правда. Ваши картины замечательные, и их нужно показывать в Лувре, Ванья, – произнесла Марина Влади с прекрасной улыбкой на губах и с тем же легким акцентом.
– Во! А вот здесь я не ошибся! – радостно произнес Высоцкий. – И ты бы, Ваня, у них был Ванья.
– Да, картины замечательные у вас, Иван, такие по-настоящему русские, я бы даже сказал – алтайские, – негромко произнес Золотухин. – А вы говорили, Ваня, про Усолье. Это Усолье сибирское, близ Ангарска, на Байкале?
– Нет, Валерий Сергеевич, это Усолье уральское, что близ Соликамска на Каме, – ответил Иван Брагин и улыбнулся Золотухину.
Сафрон почувствовал неловкую паузу и предложил пойти за стол. Но Высоцкий приобнял его за плечи, поблагодарил и сказал, что они ведь сразу после спектакля прикатили и надобно еще кое-куда заскочить, стал прощаться со всеми. Пожимая руку Ивану, он вдруг произнес: «Знаешь что, Ваня, мы с Мариной скоро в Париж ейный едем на машине, так я тебе оттуда кисточки привезу. С Монмартра. Чтобы ты, Иван, всех их перерисовал! Договорились?»
Иван вдруг замер, а потом задумчиво произнес: «Спасибо, Владимир Семенович, из ваших рук для меня и песчинка драгоценна».
– Обещаю, Ваня, обещаю. А образно ты мыслишь, Иван, креативно. Отсюда и картины твои такие. Ну, будь здоров, Ванья, и до встречи, – проговорил, улыбнувшись, Высоцкий, и они направились к выходу.
К полуночи и все остальные удивительные гости разошлись. Мария Ивановна, соседка снизу, с дочерьми Светой и Таней, помогавшие с организацией банкетов, убирали со столов, а Сафрон с Иваном сидели на краю нарядной сцены под «Рожеством Христовым» и беседовали в хорошем расположении духа. О гостях своих именитых да знаменитых беседовали. О простоте Юрия Никулина, юморе его и скромности. Об интеллигентности Андрея Тарковского и Андрея Миронова. О сдержанной глубокой наблюдательности и тонкой оценке Иннокентия Смоктуновского. О приходившем накануне Марке Захарове со своими молодыми дарованиями, Александром Абдуловым и Николаем Караченцовым. А еще раньше заходил удивительно светлый и вежливый Евгений Леонов с веселым и независимым Савелием Крамаровым. Побывали у них и Галина Волчек с красавцем Валентином Гафтом, который всех порадовал своими новыми эпиграммами типа «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона». Были и Олег Ефремов с Татьяной Дорониной из МХАТа. Бывали и какие-то оперные дивы, и балетные, но о них Иван даже и не слышал. Заходили знаменитые музыканты и спортсмены. И из Моссовета, и из горкома партии тоже бывали инкогнито. Но больше всех Ивана потряс сегодняшний визит Владимира Высоцкого.