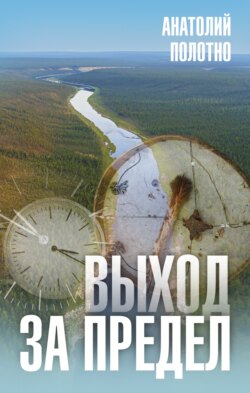Читать книгу Выход за предел - Анатолий Полотно - Страница 3
Часть I
Глава 3. Ее детство
Оглавление– Надо же, какая красивая девочка! – сказала, остановившись у песочницы, где играла Лина, какая-то женщина в берете, лакированных туфлях и с лакированной сумочкой подмышкой.
– Хочешь конфетку, девочка? Как тебя зовут?
– Меня зовут Василина, мне пять лет и семь месяцев. Я живу с бабушкой Мамашулей, а конфетку я не хочу, отдайте Микольке, он любит, – и девочка указала совочком на подбежавшего откуда-то белобрысого мальчугана в коротких штанах на одной лямке, который был постарше ее. Женщина угостила Микольку конфетой и ушла.
– Хочешь откусить половину? – спросил Миколька и протянул Василине конфету.
– Не, – ответила она. – Не буду.
Миколькой мальчика прозвала Василина, когда ей было года четыре и она никак не могла понять, почему родители зовут его Миколой, а все остальные – Колькой. Соединила эти имена и получился – Миколька. Так же получилось и с Мамашулей: мама Даша звала бабушку Машулей, а Василина стала звать ее Мамашулей, потому что взрослые у нее часто спрашивали: «Лина, это твоя мама?»
Нет! – отвечала она. – Это Мамашуля.
И все взрослые смеялись, а она говорила: «Что хохочешь? По лбу хочешь?» Это ее Миколька научил. И все опять смеялись.
Жили они в небольшом опрятном домике под высокой чинарой, обсаженной цветами. Цветы эти Мамашуля выращивала с большой любовью. Она все лето порхала над ними, как бабочка – весело и легко. Звали Мамашулю Мария Константиновна. Она была хорошо сложена и в свои уже немолодые годы ходила прямо, уверенно, с высоко поднятой головой. Голову эту венчали от природы густые пепельные волосы до плеч. В ней чувствовалась уверенность, но не было надменности, скорее, наоборот: чувствовалась какая-то открытость и доброжелательность. Она была бы даже красивой, если не оспины на лице – мелкие, глубокие, отталкивающие ямки без коросток. Вела себя Мария Константиновна всегда независимо и прямо, нисколько не обращая внимания на окружающих.
Мама Даша внешне очень походила на Мамашулю, но манера разговора, поведение были у нее другие. Она была разговорчивой, даже болтливой, быстро сходилась с людьми, бесцеремонно переходя на «ты». В женской компании сразу становилась лидером, а в мужской – предметом вожделения. Как рассказывала про маму Дашу бабушка, в школе она училась средне, как все, хотя могла бы быть круглой отличницей. Активистка и заводила с первого класса, к десятому она была уже заместителем секретаря комитета комсомола школы. Благодаря бабушке Даша прекрасно говорила по-французски и по-английски и могла бы с успехом поступить на факультет иностранного языка в Симферопольский педагогический институт. Благородно же учить детей… Но в школе она работать не хотела.
– Что я там не видела, в этом сумасшедшем доме с табличкой Средняя школа? – с насмешкой глядя на Машулю, говорила Даша.
Физический труд презирала, даже за цветами ухаживать не любила. Полить их там, прополоть – ленилась. Все время на собраниях, на бюро райкома каких-то, на сборах, на сдаче ГТО, на слетах, смотрах художественной самодеятельности, на соревнованиях. Вот и досоревновалась до райкома комсомола, а оттуда ее отправили в Москву учиться.
Вернулась с дипломом о высшем образовании и с сигаретой в зубах. Мария Константиновна спросила ее: «Диплом-то в какой сфере позволяет трудиться?»
– По партийной линии, – ответила.
И – все…
– Потом родила тебя – то ли от первого секретаря, то ли – от второго, то ли – от третьего, – продолжала свой рассказ Мамашуля, может, Василине, а может, себе.
Нет, Мамашуля не сердилась на маму Дашу, а говорила, что в новых условиях и выживать надо по-новому, приспосабливаться. Потом маму Дашу перевели в Севастопольский горком партии, потом – в Москву. А Мамашуля и Василина остались под Чинарой. Ходили гулять в городской парк, на набережную в порт, в цирк, кукольный театр, в детский сад. Потом Мамашуля готовила Лину в школу. Учила читать, писать и по-русски, и по-французски, и по-английски, обшивала, обувала, кормила, поила – в общем, делала все, чем обычно в такой ситуации занимаются бабушки.
Французский и английский языки Мамашуля знала с детства. Им ее еще гувернантка-француженка научила, которую после революции уже, здесь же, под Чинарой, зарубил саблей красноармеец-кавалерист, сказав, что та на Каплан похожа, которая в товарища Ленина стреляла.
– И картавит, как та жидовка: «Пхрастыте, пхрастыте»… Каркает, как ворона! – сказал.
И зарубил.
На этом образование бабушки Марии Константиновны и закончилось. Да и ни к чему оно, образование, тогда стало: только внимание привлекало да похоть у мужиков распаляло.
– Страшно-то как тогда в Крыму было, господи… Боже, ой как страшно, – говорила Лине бабушка шепотом. – Батюшку Серафима на чугунных воротах церкви распяли и еще в живого кол вбили с красной тряпкой. А потом и храм взорвали. Такая беда на Россию пришла, такое лютое зверство вылезло… Дворника-татарина изувечили всего. Руки-ноги отрубили и бросили посреди усадьбы. Никому не давали подойти – пусть подыхает, говорят, другим неповадно будет. Контрреволюционерам проклятым…
– Как же он выл да стонал, бедный! А потом затих навеки, – крестясь незаметно двумя перстами, вспоминала Мамашуля.
Она была тогда совсем девчонкой. И жила здесь же, под Чинарой, со своей бабушкой Елизаветой в домике для прислуги. Их дом, где сейчас больница, отобрали, выгнав их, в чем были, как недобитую контру. Они и поселились в этом домике с пожилой гувернанткой Жузей. Прислуга вся разбежалась, а им бежать было некуда. Прабабка Катя из Лондона пыталась их вывезти через английского и французского атташе в Турцию, да никак не вышло.
А в их домик стали наведываться женишки, как называла их прабабушка Елизавета. Придут, ткнут кривой саблей или револьвером в живот и говорят: «Раздевайся!» Вот тогда Мамашуля и обрызгала себя соляной кислотой в первый раз – взяла метелочку, обмакнула в банку с кислотой и обрызгалась. А второй раз обрызгалась, уже когда фашисты да всякая сволочь полицайская стала захаживать – во время войны Отечественной. Всем объявила, что у нее проказа – страшно заразная смертельная болезнь. И женишков не стало.
Во время той войны опять кровь лилась, смерть ходила, оккупация, облавы, расстрелы, бомбардировки! Хорошо еще, что домик стоял на окраине, в горах. А вот есть было совсем нечего.
Однажды, году в сорок втором-сорок третьем, Мамашуле и говорит бабушка Лиза с утра: «Катя, приходила ко мне во сне-то мама твоя. Сказала, что убили ее в Лондоне этом. Бомбой убили. А тебе нужно, говорит, Машенька, взять шелковую нитку, привязать к ней крючок рыболовный, насадить мушку, да пустить в корытах, в заводинках речек горных. Наловишь, мол, рыбки, да и поедите. А если, говорит, рыбку не поймаешь, то лягуш лови, да орехи собирай, да грибы – вот и выживете, с голоду не помрете». А Мамашуля на нее смотрит, на бабушку свою Лизу, и думает: «Наверное, умом, бедная, повредилась от горя да голода». А та давай чулочек распускать шелковый, из старых, да ниточку на тюрячок наматывать.
– На-ка, – говорит, – Машенька, пойди, испытай.
И пошла Мамашуля в горы, на речку да и наловила рыбы, и поели, и спаслись. И лягуш ели, и грибы, и орехи, и коренья разные – все что можно было и нельзя, все ели.
Незадолго до освобождения Крыма от гитлеровцев, там же, в лесу, Мамашуля и встретила парня-партизана однажды. Так испугалась сначала, когда увидела, стала кричать, что прокаженная она, чтобы не подходил. А он засмеялся звонко, автомат на сук повесил и говорит: «А я не боюсь прокаженных, я цыганами завороженный. Иди сюда, не бойся, я тебе хлеба маленько дам». А сам присел на камень и вещмешок развязывает. Осмелела Мамашуля, подошла, а он и не страшный, и не лезет, и не лапает, и даже симпатичный, чернявый такой – усики, бородка, худенький, правда, а так – ничего. И что-то шевельнулось в ней, дрогнуло, ожило.
Так и познакомилась Мамашуля – бабушка Василины, с ее будущим дедушкой Лёней. И подружились они, и залюбезничались. И стал он прибегать к ним, пробираться по ночам под Чинару. Отчаянный был. Говорил, что его цыгане то ли украли, то ли нашли. Выходили и заворожили от болезней и от пуль.
Да только не помогли заговоры-то цыганские: выследили его полицаи и расстреляли здесь же, во дворе, под Чинарой. Мамашуля с бабой Лизой омыли его под проливным дождем и тут же похоронили, не отпетого. Больше про него Мамашуля ничего не смогла и узнать-то, сколь ни старалась. Потом родила дочь Дашу – крепкую, здоровую девочку, а там Победа Великая, праздник всенародный, ликование. Но не было праздника у нее в душе, не было ликования. Там была тишина и радость одна-единственная – дочка Даша. Баба Лиза помогла ей и родить, и поднять на ноги девочку, а потом умерла. Но перед кончиной она опять видела свою дочь Катю – маму Мамашулину, которая приходила к ней из Лондона – вся в белом и с зонтиком. Что-то говорила, да та не расслышала. Эти рассказы Мамашули были для Василины самыми яркими воспоминаниями из детства.
Кроме еще одного…
Однажды Миколька привел ее в лавку «продавца счастья» – так называла этот магазинчик вся ребятня в округе. Кроме продавца, скучающего на табурете за прилавком, там никого не было. Было темно и страшновато, но пахло вкусно. Продавца звали Арон, но все обращались к нему Арик. Это был толстый человек с сильной одышкой и нездоровым лицом с крупным носом. Он был неопределенного возраста и небольшого роста. Всегда со всеми приветлив и даже ласков, особенно с детьми. Арик никогда не выходил из-за прилавка и почти не разговаривал. Взрослые говорили, это из-за того, что у него убили жену во время войны и он дал какую-то клятву – обет больше никогда не жениться, из верности. Детей они не нажили. Работала его лавка с восьми утра и до восьми вечера без выходных, а торговал Арик кондитерскими изделиями. Продавались там конфеты всех сортов – от шоколадных до горошка, печенье, пряники, вафли и вафельные трубочки, а на Пасху, хоть это и было запрещено, выставлялись куличи и ромовые бабы. Еще, как говорил Миколька, дядя Арик сам отливал в разных формочках петушков и зайчиков из плавленого сахара. А Мамашуля говорила, что Арик из-под полы приторговывает чачей, сухофруктами, орехами, домашним вином «Изабелла» и медом. И все это он берет исподтишка у каких-то проходимцев.
Василину эта лавка одновременно и испугала, и заинтриговала, как только они с Миколькой зашли внутрь. Откуда-то звучала тихая музыка, как из музыкальной шкатулки, которую привезла ей мама Даша из Москвы на Новый год. И вдруг раздался голос: «Друг мой, Колька, ты где нашел эту девочку, эту принцессу? Из какой она сказки? Из какой она прекрасной страны? Где живут такие красивые девочки?» Миколька наклонился к Василине и, улыбаясь, прошептал: «Это дядя Арик, не бойся, он так разыгрывает». А голос продолжал: «Как зовут тебя, о свет моих очей?» Миколька опять наклонился к Василине и сказал: «Это он тебя так спрашивает, отвечай». И Василина негромко, но ясно произнесла: «Меня зовут Василина. Мне пять лет и три месяца. Я живу с бабушкой Мамашулей под Чинарой». И замолчала, очарованная какой-то сказочной нереальностью. «О, это древнее имя византийских царей и цариц! Я преклоняю перед тобой свои колени, принцесса Василина! А ты иди, друг мой Колька. Возьми конфетку и иди себе», – продолжал уже другой голос из-за прилавка.
Миколька подбежал к нему, взял конфету. Пробегая к выходу, лыбясь, тихо сказал: «Так надо, не бойся». И исчез за дверью. Василина осталась стоять одна, как зачарованная, даже не обратив внимания на то, что Миколька убежал.
– Посмотри вокруг, о принцесса моих очей! Все это твое! Я дарю тебе весь этот сказочный мир! Эту свою сказочную лавку с удивительными сладостями и волшебными сюрпризами! Это мой подарок тебе, принцесса Василина! Но эти дары мои не стоят и одной твоей улыбки!
– Подойди-ка сюда, девочка, – вдруг сказал другой голос, – хочешь конфету?
Василина подошла ближе к прилавку и увидела странное лицо Арика. Он поднял прилавок и поманил ее рукой: «Заходи сюда, девочка, вот увидишь, вкусно будет». Она зашла и увидела много ящиков с конфетами, печенье в упаковках и россыпью, изюм, орехи в каких-то корытцах, ведерки с вареньем, халву в масляной бумаге, кукурузные хлопья и много чего другого.
– Бери что хочешь и садись сюда, – похлопав по своим толстым коленям, сказал Арик. Василина взяла пряник и подошла. Арик поднял ее своими пухлыми волосатыми руками и посадил к себе на колени. Потом, поправив ее платьишко, спросил: «А что ты больше всего любишь кушать?» – «Не знаю», – ответила Василина, почему-то тревожась.
– А я знаю. Ты любишь шоколад, – и Арик, положив перед ней плитку шоколада, развернул сильно шуршащую, блестящую обертку.
– Кушай, дорогая, кушай, солнышко мое, – сказал он, а сам начал поглаживать рукой ее волосы и спину, пыхтя все громче и громче. Василина, почувствовав что-то опасное, спрыгнула с его колен, бросила не откушенный пряник и, выбежав из-за прилавка в центр магазина, сказала, посмотрев Арику прямо в глаза: «Я домой хочу». Тот стал стекать со своего кожаного табурета киселем, приговаривая волшебным голосом: «Подожди, принцесса, ты еще не видела всех чудесных моих подарков, моя дорогая».
Отворилась дверь, и в яркий проем вошла женщина в белых одеждах, и почему-то с зонтиком. А Василина кинулась в этот светлый проем и убежала домой. После этого случая она стала писаться в постель по ночам. Врачи сказали Мамашуле, что это – дизурия. Может, от простуды, может, возрастная, а может, и от испуга: кто ее знает? К школе пройдет. Это продолжалось больше года и было для всех страшным секретом. Даже маме Даше не говорили, когда она приезжала. А она и не догадывалась. В это время бабушка и внучка как-то особенно подружились. Василине было очень стыдно за себя и за то, что она не может ничего с собой поделать, а Мамашуле было очень жаль внучку при виде ее страданий. А после того, как во время игры в прятки Миколька обозвал Василину зассанкой (видно, мамка его, Глашка-хохлушка, разболтала), они обе страдали еще сильнее, но поделать опять ничего не могли. Василина перестала выходить во двор играть с ребятами и с дураком Миколькой, с которым провела все детство. Все свое время девочка теперь находилась с бабушкой, помогала ей во всем, а особенно – ухаживать за цветами в палисаднике. Как-то случайно Василина заметила, что бабочки, птички, соседские кошки, бурундучок, живший на Чинаре, и даже мышки, пробегающие под цветами, нисколько ее не боятся, как будто и не видят. Она сказала об этом бабушке. Та ласково улыбнулась, глядя на внучку с любовью, и ответила: «А меня они тоже не боятся, Василиночка, а я и не знаю почему».
Однажды, играя среди цветов со своим котенком Васькой, Василина услышала, как дурак Миколька жалуется на нее своему деду Тарасу – герою войны и труда, приехавшему из города Запорожье к ним на море погостить: – А че она не играет со мной, деда? Я ее поколочу.
– Этим делу не поможешь, внучок, – вещал в ответ дед Тарас, сидя за столом в их садике и попивая прохладное из погреба вино «Изабелла», сделанное сыном его Потапом – отцом Микольки. – Барышни подарочки любят, страсть как любят подарочки-то. Подарочек ей сделал, и обратит на тебя внимание, а ты ей другой – и улыбнется, а ты ей еще один – и поцелует. А уж когда до дела дойдет, тут все отдай, не жалей, и твоей будет! В этом их вся философия женская – ты им дашь, и они тебе. Что ты для нее, то и она для тебя!
На другой день Миколька залез на забор Василины, подглядев, что она там играет с куклами, и громко крикнул:
– Василина, я тебе рогатку принес подарить! Давай снова играть будем.
– Дурак ты, Миколька. Никакие подарки тебе не помогут, если я не захочу. А захочу, так и без подарков играть буду, перелазь ко мне, – ответила Василина, и они снова стали играть, как прежде.
А лавку «продавца счастья» она стала обходить стороной. Но однажды, уже учась во втором классе, возвращаясь из школы, увидела, что возле лавки толпится народ. Девочка остановилась, подошла ближе и увидела, что участковый милиционер, армянин дядя Ашот, отец красавицы Лейлы, вывел на крыльцо лавки маленького, худощавого черноволосого человека из крымских татар, недавно вернувшегося из Казахстана. И говорит ему: «Э, ара, зачем зарезал, как барана?» А тот ему дерзко в ответ: «Слышь, начальник, баран – благородное животное, чистое. А этот – грязная свинья, я его, как свинью, и зарезал, усек?» А дядя Ашот ему и говорит: «Рашид, ты бы мне бумагу написал, заявление. Я бы его, ара, сам абэзвредил».
– Ты все и так знал, Ашот. Знал – и молчал. Он тебя с руки кормил, а ты хавал. Таких только острый нож обезвредит, клянусь Аллахом.
– Э! Зачем нож? – воскликнул Ашот.
– А если бы он с твоей Лейлой так? Давай вези, пока иду, – сказал чернявый, и дядя Ашот посадил того в коляску своего мотоцикла и увез. А Василина вдруг ужаснулась. Не тому, что здесь произошло что-то страшное, а тому, что могло бы произойти здесь с ней.
Много чего еще было в ее детстве. Были и простуды, и ангины, и скарлатина, и ветрянка, и сбитые колени, и шишки, ожоги от солнца, пробки в ушах от морской воды, первый звонок в школе и длинная речь мамы Даши перед строем первоклашек с букетами. Были радости и печали, новогодние елки, салюты в честь Дня Победы, слезы и обиды – словом, это было обычное детство обычного ребенка в Союзе Советских Социалистических Республик. Все было хорошо! Все было замечательно!