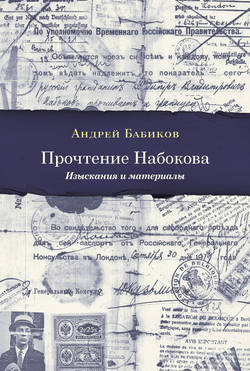Читать книгу Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - Андрей Бабиков - Страница 10
В мастерской ван Бока
Сочетание стали и патоки
Владимир Набоков о советской литературе
ОглавлениеПосле отъезда из России в апреле 1919 года Владимир Набоков в продолжение более чем полувека, в Европе, Америке и затем вновь в Европе, пристально следил за общественными метаморфозами своей родины и за ее новой литературой. В разные годы, по-русски и по-английски, с большей или меньшей основательностью, но неизменной проницательностью, он разбирал и оценивал «продукцию» советских авторов, ведущие тенденции, темы и приемы советской поэзии, прозы и драматургии. По крайней мере трижды, в 1926, 1930 и 1941 годах, Набоков принимался за обозрения советской литературы.
Первый такой обзор для устного выступления в Берлине, «Несколько слов об убожестве советской беллетристики и попытка установить причины оного», он подготовил в 1926 году, разнеся в нем прогремевший в СССР роман Ф. Гладкова «Цемент» и кратко охарактеризовав произведения Сейфуллиной, Зощенко, П. Романова, Леонова, Федина, Вс. Иванова и Пильняка. В начале доклада Набоков предвещает краткость советского периода, который уместится на нескольких страницах учебника:
Эта серая година, эта серая ночь России – которая, как мы увидим, обесцветила между прочим и русскую литературу – явленье не страшное, она пройдет, эта серая пора – и школьники грядущих веков особенно хорошо воспримут ее скуку, когда придется им зубрить те пять-шесть страниц учебника для средних классов гимназий и прогимназий, те пять-шесть страниц, которые буду[т] соответствовать серому году России[331].
Далее он высказывает мысль о единстве общего потока русской литературы и о таких же прошлых периодах упадка, «когда в наших толстых журналах обильно и неудержимо разливалась серая добродетельная муть общественно-настроенной литературщины». Приведя несколько «колючих перлов» из советских беллетристических новинок, рассмотрев «новый тип романа <…> бульварно-деревенский», отметив безграмотность, напыщенность, «самодовольную бездарность», «уморительное убожество», он называет пять причин «временного упадка российской литературы»: вера в исторические катаклизмы, классовое мировосприятие, узость поля зрения, некультурность, цензура[332]. Затем он сравнивает советский период с переходным возрастом на границе отрочества и юности, когда подросток делается «грубоват, мешковат, прыщеват», и высказывает надежду, что юность русской литературы еще впереди: «литература с таким детством не може[т] не иметь блистательной упоительной юности». Завершается этот обзор так:
И может быть, как знать, – вовсе не из той среды[,] откуда выходят Гладковы и Сейфуллин[ы], – выйдут те, которые продолжат дело первых пестунов русской музы. Мне иногда мнится, что эти грядущие писатели – будут созданы из чудес изгнания и чудес возвращения. На этом я и закончу свой доклад. Повторяю[,] он крайне не полный. Я[,] например[,] даже не упомянул о Лидине и об Яковлеве – хотя читал их. Но каки[х] [бы] упреков такого рода мне н[и] бросил[и], каких бы новых имен мне н[и] предложили для разбора – я твердо объявляю, что долго, – целый год[,] может быть[,] я к советской литературе и не прикоснусь – ибо такой насмешлив[ой] скуки, котор[ую] я испытал за то время[,] пока я одним за други[м] читал советских беллетрист[о]в, такую скуку я вновь пережить не намерен.
В 1930 году Набоков снова просматривал советские новинки, сочиняя памфлет «Торжество добродетели», в котором, не назвав по имени ни одного автора, рассмотрел все основные типы, бывшие в то время в ходу: матроса, солдата, партийца, спеца, рабочего, беспартийного, кулака, интеллигента, женщину буржуазную и женщину-коммунистку. Новую советскую литературу он возвел к ранним образцам европейской дидактической литературы – мистериям и басням, – с тем отличием, что у пролетарских писателей «превозносимое добро и караемое зло – добро и зло классовые» [Набоков 1999: 687][333].
Вскоре после публикации «Торжества добродетели» в берлинской газете «Руль» Набокову написала Нина Берберова, споря, очевидно (это письмо не обнаружено), с его подходом и в виде контраргумента приведя «Зависть» Ю. Олеши, которого Набоков в то время еще не читал. В своем ответном письме (весной 1930 года) Набоков уточнил:
Вы правы, когда уничтожаете границу между литературой, существующей за рубежом, и той, что существует в пределах России: «советской» я называю только литературу заказную, – но это уже литература не в нашем смысле, а «литература» («студенты распространяют среди рабочих литературу») и такая же литература существует и в эмиграции, хотя в меньшем пропорциональном отношении к подлинной литературе, чем в самой России.
Здесь же находим редкий у Набокова случай похвалы советскому автору, сделанной без каких-либо оговорок: «Среди поэтов есть Колычев, написавший изумительную поэму о комбриге, о Котовском» [Набоков 2017: 166][334].
Свое критическое мнение о советской литературе в это время Набоков мог сопоставить с впечатлением от непосредственного общения с советским писателем. В декабре 1931 года состоялась его встреча с А. И. Тарасовым-Родионовым, автором нашумевшей повести «Шоколад» (1922). Об этой встрече Михаил Карпович написал Владиславу Ходасевичу 12 апреля 1932 года, обсуждая современную русскую литературу, эмигрантскую и советскую:
На днях видел здесь Сирина (который мне, между прочим, понравился – он оказался гораздо проще и милее, чем я почему-то ожидал), и вот он рассказал, что недавно в Берлине советский писатель Тарасов-Родионов, убежденный коммунист, по собственной инициативе добился свидания с ним, Сириным, и в разговоре очень хвалил его писания, с которыми он (Тарасов) познакомился давно за границей, убеждал Сирина, что он совсем не «буржуазен», и старался уговорить его ехать в Россию! Не думаю, чтобы ему подобное задание могло быть дано Г. П. У. Для чего и кому Сирин в России нужен? Почему-то мне показалось, что Тарасов говорил все это от себя и искренно. Я думаю, что в глубине души и они, советские, тоже чувствуют свою «ущербность» <…> «Зависть» Олеши, «Роковые яйца» <…> Булгакова <…> это всё-таки «несостоявшаяся» литература[335].
Третий обзор, «Советская литература в 1940 году», на этот раз по-английски и для новой американской аудитории, Набоков составил в Нью-Йорке в начале 1941 года. Просмотрев последние выпуски «Нового мира» и «Красной нови» (номер этого наименее пролетарского из «толстых» советских журналов лежит на столе Федора Годунова-Чердынцева в третьей главе «Дара»), Набоков пришел к тем же неутешительным выводам десятилетней давности о заказной природе советской литературы:
Не стоит ожидать, что литература способна произвести сочинение непреходящих достоинств, когда ее единственная задача, как предписывает Государство, состоит в воплощении той или иной правительственной причуды.
Из письма Набокова к Э. Уилсону от 3 января 1944 года следует, что к тому времени он был знаком с произведениями большинства значительных советских авторов, часть из которых никогда не упоминал печатно. Получив от Уилсона предложение перевести несколько советских рассказов для американской публикации, он ответил так:
Из литературной продукции, произведенной за последние двадцать пять лет под Советской властью, я могу отобрать с дюжину рассказов, стоящих чтения (Зощенко, Каверин, Бабель, Пришвин, Замятин, Леонов – и обчелся[336]). Мое главное недовольство старыми добрыми Советами состоит в том, что они производят такую отвратительную литературу, но, повторяю, я мог бы с должной тактичностью выбрать из общей гнилой кучи несколько съедобных слив, хотя чувствовал бы себя нищим, роющимся в мусорном баке [Nabokov—Wilson: 132–133].
Помимо обозрений, Набоков посвятил советской литературе несколько лекций. Согласно объявлению в университетской газете колледжа Уэльсли от 6 марта 1941 года, его двухнедельный курс включал следующие лекции: «Советский рассказ», «Пролетарский роман» и «Советская драма» [Набоков—Карпович: 149], с разбором «Оптимистической трагедии» (1932) Вс. Вишневского и «комедии» Н. Погодина «Аристократы» (1934). В письме к М. Карповичу от 7 октября 1940 года он сообщил, что подготовил лекцию «Art and Propaganda in Russian Literature» («Искусство и пропаганда в русской литературе»), позднее преобразившуюся, очевидно, в известную лекцию «Русские писатели, цензоры и читатели», с которой он выступал до конца 50-х годов, внося в нее изменения сообразно изменениям в советской литературе (так, в поздней редакции этой лекции, вошедшей в собрание его «Лекций по русской литературе», он цитирует старый роман Гладкова «Энергия», но касается и свежих произведений периода «оттепели») [Набоков—Карпович: 51]. В своих университетских лекциях Набоков успешно находил понятные его аудитории аналогии между приемами советской литературы и методами массовой мелодраматичной – английской и американской – беллетристики, драматургии, а также клишированными приемами голливудских режиссеров и американских спортивных обозревателей. Из большого университетского курса Набокова, посвященного советской литературе, нам удалось разыскать и восстановить черновик лекции «Советский рассказ» (посвященной в основном подробному разбору «Вишневой косточки» Олеши), черновик (неполный) лекции «Пролетарский роман» и двух лекций о советской драме, которые идеально дополняют его обозрение советской литературы 1940 года и дают если не законченную (обзор советской поэзии Набоков намеревался подготовить отдельно в том же 1941 году для журнала «New Republic», однако вскоре отказался от этой мысли[337]), то широкую картину набоковских представлений об этом явлении.
Обзоры и лекции дополняются, кроме того, рецензией Набокова «Зеленые щи и черная икра» (1944) на антологию современных русских авторов в переводах на английский, выпущенную в Нью-Йорке в 1943 году, а также его суждениями в письмах и интервью. Одно из поздних таких высказываний о советской литературе, относящееся к 1961 году, свидетельствует о неизменности его общих суждений с середины 20-х годов:
Беседа перешла на современную русскую литературу. «Доктор Живаго», по мнению Набокова, среднего качества мелодрама с троцкистской тенденцией. Это определенно пробольшевистское произведение, хотя и антисталинское. Книга, по мнению Набокова, плохо написана <…> Пастернак никогда хорошим прозаиком не был. Поэт он, конечно, хороший. Не такой большой, как, скажем, Блок. «Тихий Дон» Шолохова? Третий сорт. Любимцы Набокова в советской литературе: Ю. Олеша, Зощенко[338], Ильф и Петров, в поэзии – Мандельштам и Сельвинский. «Советская литература, – говорит Сирин, – мещанская литература. Это характерно для литературы всякой страны с крайним государственным режимом. Илья Эренбург? Блестящий журналист и большой грешник. Моя покойная мать во время оно зачитывалась его поэмой „Молитва о России“, которую он написал, когда был еще в антикоммунистическом стане» [Набоков 2000-а: 647–648].
Примечательно, что из названных любимцев Набокова к этому времени в живых оставался только его ровесник Илья Сельвинский (которого Набоков упоминает в одном ряду с Осипом Мандельштамом), другой его ровесник, Юрий Олеша, умер за год до этого, как оригинальный писатель умолкнув намного раньше[339].
Знакомству Набокова с советской поэзией к началу его лекционных выступлений в Америке во многом способствовало его участие (наряду с Верой Сандомерской, Александром Кауном, Айседорой Шнейдер, Бабеттой Дейч) в представительной антологии советской поэзии, помещенной большим отделом в сборник Джеймса Лохлина «New Directions in Prose and Poetry» (1941). Его переводы трех стихотворений Ходасевича в этой книге (предваряемые короткой заметкой, в которой Набоков говорит среди прочего об «исключительно сильном, хотя и не слишком плодотворном, влиянии Ходасевича на советских и эмигрантских поэтов») соседствовали с переводами из Э. Багрицкого, С. Кирсанова, В. Луговского, И. Уткина, Б. Пастернака, В. Саянова, С. Щипачева, И. Сельвинского, В. Шефнера, А. Твардовского, Н. Асеева, В. Маяковского, В. Лебедева-Кумача, А. Суркова, М. Светлова, А. Жарова, Н. Тихонова, а также содержательными статьями о советской поэзии и короткими справками о некоторых поэтах, представленных в антологии[340].
Обращения Набокова к советской литературе в художественных произведениях, из которых следует назвать «Рождественский рассказ» (1928)[341], стихотворный «Разговор» (1928), романы «Дар» (1938) и «Взгляни на арлекинов!» (1974)[342], сопровождались оценками само́й второсортной советской действительности, производной от которой новая русская литература, по мнению Набокова, и является. В черновой рукописи «Разговора» находим примечательный фрагмент, вычеркнутый Набоковым:
[Издатель]
Все это ново, как-никак.
Критик
Возьмите приложенье к «Ниве»
за девяностый, скажем, год.
Кто посмелей да попытливей
там это новое найдет[.]
Однообразные рассказы!
В отцовского секретаря
княжна влюбилась, – и не зря:
он был простой, он был чумазый, —
но был он труженик. Душок
знаком? Не так ли ныне пишут,
опять гражданственностью дышат[,]
хоть и безграмотнее слог?
<…>
И кстати слог. Бедняги эти, —
Цементов, Молотов, Серпов,
сосредоточенно, как дети,
рвут крылья у жужжащих слов.
Их мир – сплошная небылица.
Вот вам пример из одного:
«Была Анюта, как волчица[,]
близка к припадку»[343]. Каково?
Убого, – а поди, разведай[,]
что критик верный набубнит.
«Созвучность… пафос… новый быт»[344].
«Отражены там в серой луже / штык и фабричная стена», – заключает «Критик» в опубликованной версии «Разговора». Одно из самых выразительных высказываний о серой советской яви содержится в «Даре»:
На другом столе, рядом, были разложены советские издания, и можно было нагнуться над омутом московских газет, над адом скуки, и даже попытаться разобрать сокращения, мучительную тесноту нарицательных инициалов, через всю Россию возимых на убой, – их страшная связь напоминала язык товарных вагонов (буханье буферов, лязг, горбатый смазчик с фонарем, пронзительная грусть глухих станций, дрожь русских рельсов, поезда бесконечно дальнего следования) <…> Вдруг ему стало обидно – отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться? [Набоков 1975: 191; 197].
Советская Россия, в свою очередь, изображается Набоковым сквозь призму ее выхолощенной литературы, провинциальной, безнадежно загубленной страной или действительностью иного порядка, как пасмурная «обиходная явь» (в «Трагедии господина Морна»[345]), потусторонность или Аид (в «Защите Лужина»: «Когда же она обращалась к газетам потусторонним, советским, то уже скуке не было границ, от них веяло холодом гробовой бухгалтерии, мушиной канцелярской тоской, и чем-то они ей напоминали <…> маленького чиновника с мертвым лицом в одном учреждении <…>»), мрачная Зоорландия («Подвиг»), загадочная и отсталая Татария («Ада»), бутафорская «Страна Чудес» («Взгляни на арлекинов!»), – там читают «На Тихом Дону без перемен» и «Доктора Мертваго». В «Арлекинах» Набоков окончательно отождествляет советскую литературу с советской реальностью, сталкивая своего героя, всемирно известного американского писателя Вадима Вадимовича N., тайно приехавшего в Ленинград середины 60-х годов, с советским писателем и агентом госбезопасности Олегом Орловым, служащим под началом некоего влиятельного Федора Михайловича[346].
При всем многообразии сочинений, посвященных советской литературе, о сколько-нибудь систематических занятиях Набокова в этой области говорить не приходится. В отличие от ведущего эмигрантского критика Г. Адамовича, который во множестве заметок, рецензий, эссе, обзоров и специальных рубрик в «Звене» и «Последних новостях» («Про все», «По советским журналам», «Отклики» – под красноречивым псевдонимом Сизиф, – и др.) начиная с 1924 года и до своей смерти создал для эмигрантского читателя детальное описание советской литературы за несколько десятилетий; в отличие от второго по влиятельности парижского критика В. Ходасевича, с 1928 по 1939 год ведшего (совместно с Берберовой и под общим псевдонимом Гулливер) в «Возрождении» еженедельную «Литературную летопись», освещавшую, помимо советских литературных новинок, события тамошней литературной жизни, а кроме того, написавшего несколько отдельных работ, среди которых большая статья «Литература и власть в советской России» (1931) [Ходасевич 1996-а: 227–249], Набоков писал главным образом о лояльных режиму авторах, идущих столбовой дорогой пролетарского романа или пьесы, стремясь выявить черты именно господствующего в СССР литературного направления и определить его генеалогию[347]. Так, рассматривая или упоминая Гладкова, Федина, Пильняка, Леонова, Шолохова, Лидина, Вс. Вишневского, Н. Погодина, А. Суркова, М. Шагинян, он печатно (не в устных выступлениях и лекциях) не называет имен Замятина, Платонова, Каверина, Бабеля, Булгакова, Заболоцкого, Вагинова, Тынянова, Паустовского, Грина и других независимых или опальных (что в конечном счете могло означать одно и то же) писателей – ни в 20–30-х годах, когда его хвалебный отзыв белого эмигранта мог бы им навредить, ни в 40–50-х годах, когда многих из них уже не было в живых[348]. В числе единичных исключений: его отзывы (уничижительные) в «Руле» о Пастернаке (в 1927 году) и Ахматовой (в 1928 году), причем в обоих случаях Набоков предостерегает молодых эмигрантских авторов от подражания им. Комплементарно, хотя и вскользь Набоков говорит о Пастернаке в обзоре советской литературы 1940 года и в американской лекции «Советский рассказ», то есть в то время, когда изменились и сама пастернаковская поэтика, и мнение о нем Набокова. В письме к Джеймсу Лохлину от 10 января 1941 года Набоков отметил:
Да, Пастернак – настоящий поэт непреходящих достоинств; стихи его нелегко перевести так, чтобы сохранить и музыку и намеки (и перекличку образов), но сделать это можно. Не так много поэтов или стихотворений в России, которые стоили бы труда: я могу вспомнить только одно действительно замечательное (т. е. выходящее за пределы пропаганды) стихотворение Маяковского, лишь одно у Багрицкого, несколько у Заболоцкого и Мандельштама. Есть еще Есенин и Сельвинский. Несомненно, лучшие поэты наших дней это Пастернак и Ходасевич, и в основе антологии современной русской поэзии, как я думаю, должны лежать стихи этих двух поэтов <…> Для самой представительной антологии следовало бы выбрать 10 стихотворений Ходасевича, 10 Пастернака и 20 всех прочих. <…> На мой взгляд, несмотря на политические потрясения, в течение последних двадцати лет лучшая поэзия в Европе (и худшая проза) была создана на русском языке, так что том русской поэзии был бы очень хорошим делом[349].
Оставшихся в России после революции Гумилева, расстрелянного в 1921 году, и Блока, умершего почти в одно с ним время, к которым Набоков неизменно возвращался на протяжении своей жизни, он прямо противопоставлял новым советским поэтам. Одна из причин, по которой для своих лекций о советской драме он выбрал именно «Оптимистическую трагедию» Вишневского, состоит, как нам представляется, в том, что в ней красный комиссар, утверждая скорый расцвет пролетарского искусства, спорит с командиром (из «бывших») о русской литературе и между прочим приводит стихи казненного большевиками Гумилева:
Комиссар. Вы можете мне ответить прямо, как вы относитесь к нам, к Советской власти?
Командир (сухо и невесело). Пока спокойно.
Пауза.
А зачем собственно вы меня спрашиваете? Вы же славитесь уменьем познавать тайны целых классов. Впрочем, это так просто. Достаточно перелистать нашу русскую литературу, и вы увидите…
Комиссар. Тех, кто, «бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что золото сыпется с кружев, с розоватых брабантских манжет». Так?
Командир (задетый). Очень любопытно, что вы наизусть знаете Гумилева. Но о русских офицерах писал не только Гумилев – писал Лермонтов, Толстой…
Комиссар. Ну, знаете. Лермонтов и Толстой были с вами не в очень дружеских отношениях, и мы их в значительной степени сохраним для себя. А вот, кстати, вы сохранили бы искусство пролетариата?
Командир. Вряд ли. Впрочем, если указанный пролетариат сумеет создать второй Ренессанс, вторую Италию и второго Толстого…
Комиссар. А знаете, ничего второго не надо… Будут первые, свои. Для этого даже не потребуется двухсот лет, как потребовалось вам.
Командир. Вы рассчитываете на ускоренное производство, серийно?
Комиссар. Я рассчитываю на элементарную серьезность и корректность.
Командир. Вы же сами взяли на себя очень тяжелую обязанность – просвещать взрослых. Мне жаль вас. <…> Счастье и благо всего человечества?! Включая меня и членов моей семьи, расстрелянных вами где-то с милой небрежностью… Стоит ли внимания человек, когда речь идет о человечестве [Вишневский 1987: 476].
Оправдывая Блока, Набоков видел в поэме «Двенадцать» не манифест перековавшегося, подобно Брюсову, поэта, а предсказание и иносказание. Весьма примечательно в этом отношении его позднее (1952 года) замечание:
<…> поражает вовсе не самый факт появления Христа среди угрюмого сброда революции, ибо где же Христу появляться, если не среди грешников, – поражает другое, а именно бутафория появления этого лже-Христа <…> Загримированный Христом, это проходит сам автор, вводя в литературу двенадцать октябрьских бродяг, угрюмых, недалеких, но преданных лозунгам, и заодно с ними идут программным маршем все остальные образы поэмы: стихийный ветер, буржуй в меховом воротнике, старушка, ворчащая на большевиков <…> интеллигент-вития, несимпатичный, с длинными волосами, барыня в каракулях, и, наконец, Петруха, которого товарищи уличают в классовой бессознательности, и который вдруг веселеет, постигнув, что дело революции важнее личной беды, – все эти революционные марионетки в пальцах опытного пупенмейстера суть образы, вошедшие в домашний обиход средней советской литературы. Так Блок зимой 1917 года дал своеобразную программу, ограниченный перечень возможных тем, прейскурант того небольшого инвентаря, которым рядовая советская литература, так называемая «революционная», а на самом деле ретроградная и мещанская, располагала в продолжение этих тридцати пяти лет. Это есть не литературное влияние, а литературное предсказание <…> тех образов, оценок, отношений, которых советское самодержавие потребует от литературы, и потому неожиданными красками гротеска зажигается это искусное, невольно пророческое произведение [Набоков 2014: 211–212].
Такая избирательность Набокова по отношению к советской литературе нашла отражение и в его обзоре советских журналов 1940 года. По приведенным в нем именам, образам и цитатам нам удалось воссоздать картину его чтения «Красной нови» и «Нового мира» 1939–1940 годов, которая показывает, что Набоков оставляет без внимания целый ряд интересных материалов. Разумеется, эти журналы главным образом были посвящены пропаганде, советским достижениям и первым лицам советской литературы – Шолохову (публикацию четвертой книги «Тихого Дона» в «Новом мире» Набоков даже не упоминает), А. Толстому, Лидину, Федину, Асееву и другим. Но в них было отведено место не только восхвалениям Сталина, народных поэтов советских республик и полярников, статьям, вроде «Гамзат из аула Цада» и «Образы художественной литературы в высказываниях Сталина». Подметив ту же старую линию «общественно-настроенной литературщины», ведущую к самим истокам советской литературы, Набоков не отмечает другую, пунктирную линию подлинной литературы: блестящие записки Пришвина о детстве и природе (Новый мир. 1940, № 10), «Невыдуманные рассказы о прошлом» Вересаева (там же, № 6, 8–10), ценный филологический, исторический или переводной материал, например публикацию неизвестных писем Чехова (там же, № 1), яснополянских дневников Толстого (Красная новь. 1940, № 11–12), работы Н. Гудзия и М. Цявловского (Новый мир. 1940, № 11–12), переводы И. Кашкина из «Кентерберийских рассказов» Чосера (Красная новь. 1940, № 4), В. Шершеневича из «Цветов зла» Бодлера (там же, № 5–6), обширную статью П. Балашова о Стейнбеке (Новый мир. 1940, № 10), из которой Набоков мог почерпнуть имя для героя «Лолиты» («Одиноко, точно улитка в раковине, замкнулся на своей ферме старый холостяк Гумберт, скованный томлением и страхом перед отвратительными призраками прошлого», – пишет Балашов об одном из персонажей «Райской долины» Стейнбека), и другие настоящие вещи, печатавшиеся в этих двух журналах помимо «официозного хлама».
Говоря о генеалогии советской литературы, Набоков находил ее истоки, с одной стороны, в приторной, типично-буржуазной популярной литературе конца XIX – начала XX вв., в нравоучительных повестях Л. Чарской («чаровницей из Чарской» в «Постскриптуме» к «Лолите» называет Набоков героиню «Доктора Живаго»), у «идейных» авторов, вроде А. Вербицкой, Е. Нагродской, в шаблонных романах Н. Лаппо-Данилевской, Н. Брешко-Брешковского[350], А. Каменского; с другой стороны, в сочинениях народников, членов всевозможных кружков и объединений, в «добродетельной мути общественно-настроенной литературщины» конца XIX века, «перед самой зарей символизма»[351]. В этом отношении его мнение совпадало с мнением Ходасевича, ничего специфически нового в «новой» литературе не видевшего и еще в 1925 году в статье «Пролетарские поэты» писавшего о традиционности революционных стихов, восходящих к «„рабочей“ поэзии, идущей от Некрасова, Сурикова, П. Я., Тана и прочих» [Ходасевич 2010: 337]. При этом разделение на литературу и «литературу», о котором Набоков говорит в письме к Берберовой, применялось им по отношению к литературе советской в той же мере, что и к литературе русской и любой другой. Отвечая кн. Зинаиде Шаховской на ее замечания, изложенные в статье о характере его творчества, он 15 сентября 1934 года, во время работы над «Жизнью Чернышевского» для «Дара», писал:
Спасибо большое за статью. На что мне сердиться? Вздор, – вы удивительно внимательно – и для меня лестно – отнеслись к моему т-ству (не «товарищество», а «творчество»). Но, вообще говоря, и это не относится прямо ни к статье, ни к хорошим вашим стихам – …Зина, Зина, я все-таки боюсь, что вы не отдаете себе отчета в том, что к писанью прозы и стихов не имеют никакого отношения добрые человеческие чувства, или турбины, или религия, или «духовные запросы» и «отзыв на современность»[352]. Будем прежде всего сочинителями, Зина! Уверяю вас, что одно только важно: это, простите за выражение, искусство. Я думаю, что все остальное приложится, а если нет – tant pis. Мне кажется, что (в статье) вы многое верно приметили – например, насчет «тезы». Да, действительно, – плевать мне на Достоевского. О, публицистика, о, поучительство! Заметили ли вы поганенькую добролюбовщину и елейность нашей эмигрантской критики? Это, конечно, только жалкий анахронизм по отношению к дикому, ликующему мещанству (или «ученому марксизму»), до которого в России (со времен бездарного Белинского еще) докатилось наливное яблочко русской мысли. И точно так же как мне противна вся советская беллетристика (Леонов и лубочный А. Толстой включительно), с ее правительственным фаршем, так, читая французов, я в рот не беру ничего такого, где есть хоть капля католицизма (посему Клодель и Морьяк [sic] для меня безнадежно отравлены) [Nabokov papers].
Такую позицию Набокова можно было бы свести к эстетизму, утверждению «искусства ради искусства» в духе Уолтера Патера и Оскара Уальда, если бы сам Набоков особо не оговорил в лекциях «Советская драма», что «идея „чистого искусства“ – плоская, как все другие идеи, жадно поощряемые модой или контр-модой, обычно становящейся новой модой. Не обладающий гениальным даром писатель, неукоснительно следующий широко известной программе искусства ради искусства, довольно курьезным образом приходит в конце концов к тому же, к чему приходит и псевдопролетарский автор, настолько человечно озабоченный долей униженных и оскорбленных, что сострадательная публика охотно прощает ему отсутствие таланта. <…> Нет, „искусство ради искусства“ слишком сильно страдает определенными модами девяностых годов и не имеет ничего общего с точкой зрения художника <…>».
Сумма претензий Набокова к советской литературе, таким образом, обусловлена не раз приводившимися им общими основаниями всякого истинного искусства, которые кратко сводятся к следующим: оперирование постоянными, а не относительными исторически или социально детерминированными величинами, широта взглядов, презрение той или иной моды, направления, господствующей философии или доктрины, любого «заказа», любой утилитарной цели и отказ от мысли, что писатель своими книгами должен наставлять, изменять и вообще улучшать общество, каких бы благих целей он ни преследовал. Приверженность той или иной идеологии или направлению неизбежно ведет, по Набокову, к неприемлемой и, по сути, невозможной форме коллективного творчества, отрицавшейся им с тем же жаром, что и, к примеру, формы коллективной, заранее определенной модели психических реакций и влечений фрейдизма, классовое деление общества или принцип борьбы за существование вульгарного дарвинизма. Советской коллективной литературе («классовость» – лишь эвфемизм безличия), с ее пафосом строительства нового общества и «борьбы за интересы трудящихся», Набоков противопоставлял великую транснациональную традицию индивидуального независимого творчества, исходящего из ценности личного взгляда художника на человека и общество, каким бы крамольным или неожиданным этот взгляд ни был. Именно сложностью и глубиной уникального восприятия действительности объясняется сложность и глубина всякого подлинного искусства, с его поисками неизведанного, с его сомнениями и открытиями, в то время как для советской литературы была разработана «нормативная эстетика» (выражение Д. Мирского в статье 1934 года под показательным названием «Политика и эстетика») заведомо условного реализма (заведомо условного, поскольку действительное положение дел и состояние умов писатель не вправе был показать), предполагающая абсолютное знание истинной природы человека, назначения «принадлежащего народу» искусства, законов общества и его благополучия.
Окончательно утратившая свою независимость, советская литература к началу 30-х годов могла вдохновляться лишь речью вождя, постановлением какого-нибудь пленума или передовицей «Правды» о великих свершениях и отдельных недостатках, а революционная героика под воздействием центростремительных сил закономерно редуцировалась до воспевания фигуры одного-единственного героя – Сталина, инструментом обслуживания интересов и вкусов которого она и стала. В докладе, составленном для Британского правительства в 1945 году, Исайя Берлин писал:
Новая ортодоксия, окончательно утвердившаяся после падения Троцкого в 1928 году, решительно положила конец инкубационному периоду, в течение которого лучшие советские поэты, романисты и драматурги <…> создали свои самые оригинальные, памятные всем произведения. Это обозначило конец бурной второй половины 20-х годов <…> До 1928 года мысль была в бурлении, все было неподдельно оживлено духом бунтарства, вызова западному искусству; казалось, что идет последний решительный бой с капитализмом, который вот-вот ниспровергнет – на художественном фронте, как и на всех остальных – сильная, молодая, материалистическая, земная пролетарская культура, гордая своей брутальной простотой и новым жестоким и неистовым образом мира <…> это была эпоха Пастернака, Ахматовой <…>, Сельвинского, Асеева, Багрицкого, Мандельштама; таких писателей, как Алексей Толстой (вернувшийся в 20-е годы из Парижа), Пришвин, Катаев, Зощенко, Пильняк, Бабель, Ильф и Петров; драматурга Булгакова; таких признанных литературных критиков и ученых, как Тынянов, Эйхенбаум, Томашевский, Шкловский, Лернер, Чуковский, Жирмунский, Леонид Гроссман. Голоса писателей-эмигрантов – Бунина, Цветаевой, Ходасевича, Набокова – были едва слышны[353].
Звучащий в 30-х годах из репродукторов голос Сталина заглушил все прочие голоса. Любое его высказывание о литературе и роли писателя немедленно приобретало силу директивы и тут же на разные лады перепевалось советскими авторами. Провозгласив, к примеру, в 1932 году на банкете у Горького, что «писатели – инженеры человеческих душ», Сталин пустил в литературный оборот десятки всевозможных технических уподоблений писательского ремесла и – шире – всего общественного переустройства, вплоть до «социалистического строительства души» у Д. Мирского и «духовной электрификации» у А. Толстого (другое дело, что любая игра слов с «душой» в литературном контексте и в контексте эпохи немедленно напоминала о гоголевских «Мертвых душах»)[354].
Эти тенденции были очень скоро замечены эмигрантской критикой. О том, что «фантазирует в России только один человек», а все остальные «по мере сил проводят его предначертания в жизнь», в 1933 году проницательно написал Адамович в статье «План», в которой он вынужден был с сожалением признать, что советская литература не состоялась: «Да, могло бы что-то быть… Но не получилось почти ничего». Критик приходит к выводу, что «в слово „литература“ вложено в СССР новое, чуждое нам понятие».
Для нас литература – выражение или отражение духовного мира человека, – продолжает Адамович. – Определение это может быть заменено другим <…> но какое бы определение кто ни нашел, всякое будет содержать в себе приблизительно то же самое. Во всяком будет подразумеваться личность в ее отношениях к стихиям, к обществу, к неизвестному, к самой себе, – и передача всего этого в слове. <…> В России литература становится механична потому, что только при этом она чувствует себя в безопасности: вольная трактовка темы неизбежно увлекла бы ее в «уклон». Это особенно видно в языке. Кто читает советские журналы, тот знает этот нестерпимый, мертвый, казенный советский язык, составленный не столько из комбинаций слов, сколько из комбинаций готовых фраз, всегда одинаковых, неизменно повторяемых. Да и слова одинаковые! Сказал о ком-то Сталин «головотяп»: через неделю не было статьи без головотяпа… [Адамович 2007: 369–372][355].
Набоков отдельно остановился на новой функции советской литературы в обзоре 1941 года, а еще раньше схожим образом высмеял рабскую зависимость писателей от вкусов «отца народов» в рассказе «Истребление тиранов» (1938):
Нынче он сказал речь по поводу закладки новой, многоярусной теплицы и заодно поговорил о равенстве людей, о равенстве колосьев в ниве, причем для вящей поэзии произносил: клас, класы, и даже класиться, – не знаю, какой приторный школяр посоветовал ему применить этот сомнительный архаизм, зато теперь понимаю, почему последнее время в журнальных стихах попадались такие выражения, как «осколки сткла», «речные праги» или «и мудро наши ветринары вылечивают млечных крав» [Набоков 2016: 462–463].
В эссе «О Ходасевиче» (1939) Набоков принужден был заключить, что «<…> в пределах России мудрено представить себе поэта, отказывающегося гнуть выю (напр., переводить кавказские стишки), т. е. достаточно безрассудного, чтобы ставить свободу музы выше собственной» [Набоков 2000-б: 587]. В том же году, когда он опубликовал «Тиранов», Ходасевич в статье «О советской литературе» писал:
С момента своего прихода к власти советское правительство поставило себе задачу – в определенном направлении перестроить миропонимание всей нации. Естественно, что самое сильное влияние в первую очередь было направлено на литературу, от которой предстояло добиться, чтобы она не только сама идейно перестроилась, но и служила орудием для внедрения новых понятий в умах общества. Поскольку литературные кадры, сравнительно небольшие по объему, доступнее воздействию и надзору, нежели вся огромная народная толща, процесс перестройки совершался в литературе быстрее и отчетливей, нежели в народе вообще [Ходасевич 1996-б: 420–421].
Вслед за Адамовичем он приходит к выводу, что «Советскому писателю становится нечего делать, потому что ни ему, ни его читателям (как он их себе представляет) нечего больше желать и не о чем тревожиться. Конечно, может он предаться естественному райскому делу – славословию, воспеть хвалебный гимн если не Отцу миров, то отцу народов со всеми угодниками. Он это и делает, но <…> может он повторять только то, что все и без него знают, превращаться лишь в один из голосов всеобщего хора» [Там же: 424–425]. При таких обстоятельствах единственной надеждой на возрождение русской словесности оставался русский читатель, который, по словам Ходасевича, сохранив духовную связь с русскими писателями, «чутьем угадывает художественное превосходство классиков перед современниками» и к «эстетической оценке приходит <…> через ощущение человечности, которой советские авторы лишены» [Там же: 422]. О том же говорит и Набоков в конце лекции 1958 года «Русские писатели, цензоры и читатели», уже вынужденный отказаться от надежды стать свидетелем «блистательной упоительной юности» русской литературы, которую он предвещал в докладе 1926 года:
<…> талантливый читатель – фигура всеобъемлющая, не зависящая от законов пространства и времени. Это он, хороший, тонкий читатель, снова и снова спасает художника от истребления – монархами, диктаторами, священниками, пуританами, мещанами, моралистами, полицейскими, почтмейстерами и лицемерами.
Публикуемые сочинения Набокова о советской литературе представляют собой не только антикварную ценность. Помимо того, что высказанные им мысли находят множество важных соответствий и пересечений с мыслями и взглядами первоклассных эмигрантских критиков, что дает возможность отвести Набокову среди них заметное место, они имеют немалое значение и как документальное свидетельство, позволяющее расширить и уточнить круг его чтения советских авторов в самых разных жанрах и родах литературы, от стенограмм писательских съездов и очерков капитана-полярника, которые Набоков внимательно прочитал и процитировал в обзоре советской литературы 1940 года (причем детальные описания полярной зимовки могли вдохновить Набокова на рассказ об арктической экспедиции Гумберта в «Лолите»), до критических статей и драматургии. Они, кроме того, существенно дополняют ряд опубликованных произведений, лекций и писем Набокова о современной литературе, немало нового открывают в его понимании настоящего достоинства искусства, отношений художника и власти, свободы творчества, ложных и истинных путей словесности.
* * *
Для настоящей публикации нами подготовлены следующие сочинения Набокова.
1. Две лекции «Советская драма», написанные в феврале 1941 года для лекционного курса в колледже Уэльсли [Бойд 2010: 34; Nabokov—Wilson: 46; Набоков—Карпович: 149]. В архиве Набокова сохранились частью машинописные, частью рукописные отделанные черновики этих лекций (всего 32 страниц), которые мы печатаем в нашем переводе с исправлением явных описок и неточностей и приложением исключенных Набоковым фрагментов, первых вариантов и рабочих заметок (The New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. The Soviet Drama. Holograph and typescript draft of two lectures). Хотя и посвященные только двум советским драматургам, Вишневскому и Погодину, эти лекции имеют отношение к широкому кругу вопросов, касающихся современной драмы и советской литературы, и затрагивают темы, подробно рассмотренные Набоковым в опубликованных нами ранее лекциях «Ремесло драматурга» и «Трагедия трагедии» [см.: Набоков 2008: 494–518].
2. Лекция «Советский рассказ». Публикуется в нашем переводе (с выпусками тех мест, которые повторяются в обзоре «Советская литература в 1940 году») по черновой рукописи, частью машинописи (всего 20 страниц), хранящейся в Berg Collection. В том же архиве отложилось восемь машинописных страниц с обильной правкой неозаглавленной лекции, часть которой (со стр. 4 до стр. 11) имеет пометку: «Olesha and émigrés» (Олеша и эмигранты). Эта часть (назовем ее Лекция-2) корреспондируется с лекцией о советском рассказе, отчасти повторяет и дополняет ее. Наличие двух разных редакций лекции «Советский рассказ» объясняется, по-видимому, тем, что Набоков использовал на различных стадиях своего курса и перед разными аудиториями материал более общего (как во втором архивном тексте) и более специального характера. Некоторые фрагменты из этого второго текста мы приводим в подстрочных примечаниях.
3. Обзорная статья «Советская литература в 1940 году», написанная в марте 1941 года для нью-йоркского журнала Клауса Манна (старший сын не любимого Набоковым Томаса Манна, эмигрировавший из Германии после прихода Гитлера к власти) «Decision. A Review of Free Culture». Несколько раз отложенная редакцией журнала, она должна была выйти в июльском номере, но так и не была напечатана, по-видимому, вследствие нападения Германии на СССР и отказа редакции от публикации на этом фоне резко-критического материала Набокова[356]. В Berg Collection нами обнаружено следующее английское письмо Клауса Манна, напечатанное на бланке журнала:
DECISION a review of free culture
141 East 29th Street, New York
6 мая 1941 г.
Г-ну Владимиру Набакову [sic]
35 West 87th Street
Нью-Йорк
Многоуважаемый г-н Набаков [sic]:
Да, действительно, мне бы хотелось увидеть Ваши переводы Пушкина[,] Лермотова [sic] и др. Это очень хорошо, что я смогу выбрать то или другое для этого журнала.
Так глупо, что нам пришлось несколько раз откладывать публикацию Вашего замечательного материала – исключительно по причинам технического рода. Собственно, он уже был сверстан около восьми недель тому назад и я надеюсь, что смогу его поместить в наш следующий номер.
Конечно, я хочу познакомиться с Вашим другом г-ном Алдоновым [sic]. Я бы предложил ему позвонить мне в конце недели – или в Отель Бедфорд утром (СА–5–1000), или в контору журнала после полудня.
С искренним почтением,
Клаус Манн
Набоков 8 мая послал Алданову открытку следующего содержания (Berg Collection):
Дорогой Марк Александрович,
Klaus Mann просит вас ему позвонить (причем, мое имя он пишет Nabakov, а ваше Aldonov – мы с вами трогательно обменялись главной гласной) в пятницу или субботу, либо утром в отель Bedford (Са 5 1000), либо в контору 141 E. 29 пополуднем [sic] (Le 2 3555). А Лермонтов у него превратился в Larmotov [sic]. Я вас ему описал.
Жму вашу руку. Хорош стиль у Коварского.
Ваш [подпись: В. Набоков]
26 мая Клаус Манн сообщил Алданову, что собирается напечатать его работу «в июле, вместе со статьей Набокова о русской литературе при Сталине, набоковским переводом стихотворения Пушкина, который я получил от него сегодня, и эссе американского автора Карсон Мак-Каллерс о влиянии русской классической литературы на писателей американского юга» (Columbia University / The Rare Book and Manuscript Library / Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture / Mark Alexandrovich Aldanov papers). Из перечисленных К. Манном материалов было опубликовано лишь эссе Мак-Каллерс.
331
Здесь и далее доклад цитируется по рукописи, хранящейся в архиве Набокова (The New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers. Manuscript box 1), поскольку его опубликованный текст (Набоков В. Несколько слов об убожестве советской беллетристики и попытка установить причины оного / Публ., прим. А. Долинина // Диаспора. Новые материалы II / Ответ. ред. О. А. Коростелев. СПб.: Феникс, 2001. С. 9–21) содержит многочисленные неоговоренные публикатором пропуски, произвольные замены и искажения (у Набокова «какие колючие перлы», у Долинина «какие перлы», у Набокова «такой насмешливой скуки», у Долинина «такой скуки», «военная хитрость» становится у Долинина «веселой хитростью», «удивительная нация» превращается в «удивительные наши», «упоительная юность» становится «унизительной юностью» т. д. и т. п.).
332
Ср. перечень особенностей / недостатков советской литературы в статье Ф. Степуна, написанной незадолго до набоковского доклада: «Характерный метод сдвигов (ведение повествования одновременно через несколько пересекающих друг друга планов), обнаруживающий хотя бы в „Ледоходе“ Пильняка какое-то своею сознательностью уже подозрительное тяготение к романтической хаотичности и иронии; <…> лирическое растление почти всей современной прозы сложными ритмическими взмывами и падениями (очень распространенное и опасное влияние неподражаемого Андрея Белого); синтаксическая вывихнутость фразы; характерное пристрастие к непосредственным разваливающимся образам <…>; страшная перегруженность всего повествования орнаментальностью; перемежающаяся лихорадка формальных влияний; постоянные броски от кинематографа и кинематографического западноевропейского романа (Эренбург, Шкловский) к сказу, этнографии, областничеству (Серапионы); спертый дух вокруг коммунистических идей <…> – все это явно свидетельствует, что советская литература отнюдь не вырабатывается в идеологических лабораториях коммунизма, а, вопреки ему и в обличение его, органически вырастает из того положительного опыта развала, распада, страдания и безумия, в котором крутится сейчас Россия» (Степун Ф. А. Мысли о России // Современные записки. 1925. Кн. XXIII. С. 364).
333
Примечательно сходство этого вывода Набокова с мнением Б. Пастернака, писавшего в 1926 г., что «Ганса Сакса можно считать далеким первопредшественником пролетарских и крестьянских поэтов, бывших и какие когда будут, в том числе наших, параллель же между ним и Демьяном Бедным напрашивается с неотразимостью» («Ганс Сакс» // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. / Сост. В. Борисова и Е. Пастернака. М., 1991. Т. 4. С. 687).
334
В стихотворении (не поэме) О. Я. Колычева «Котовский в Баварии», которое трудно назвать «изумительным», есть и такие строки: «Хорошо – серебро с бедняками делить пополам, / Хорошо – ночевать в виноградных корчмах на дороге… / И хозяйских девчонок целуют они наповал, / И хозяйские чарки колотят они рикошетом… / И напуган Берлин, и к восстанию подан сигнал / И король арестован – бессмысленно переодетым» (Новый мир. 1927. № 11. С. 188). Из пражского письма Набокова к жене (от 17 мая 1930 г.) следует, что в это время он читал не только художественные сочинения советских авторов: «В одном советском сборнике были мемуары одного комиссара, он рассказывает, между прочим, как раздавали вещи из нашего дома и как он взял себе китайского болванчика с кланяющейся головкой. Я так его помню, этого болванчика» (Набоков В. Письма к Вере. М., 2017. С. 178).
335
Цит. по: Ливак Л. Критическое хозяйство Владислава Ходасевича // Диаспора. Новые материалы [Вып. ] IV. СПб., 2002. С. 406.
336
Это слово в письме написано по-русски.
337
В архиве Набокова в Berg Collection имеется правленая машинопись неозаглавленной лекции о русской поэзии начала XX в. с добавлениями на трех страницах о советском периоде (Гумилев, Пастернак и Сельвинский), которые относятся к его курсу лекций о советской литературе и помечены: «Sov.<iet> 1», «Sov.<iet> 2» и «Sov.<iet> 3». Там же, помимо этого, имеется частично сохранившаяся машинопись его лекции «Proletarian Novel» («Пролетарский роман») с заметками, всего семь страниц.
338
Набоков переменил мнение о Зощенко в 30-х гг., ср. его отзыв о нем в «Убожестве советской беллетристики»: «Но вернемся к „âme slave“ – и для этого обратимся к писателю Зощенко. Это писатель безобидный, серенький, сентиментальный[,] даже матюгается миндально, – одним словом, ежиком стриженная литература. Этот не скажет Петербург – все-та[ки] белой гвардией пахнет[,] – но и не скажет Ленинград – все-таки совестно. Зато вот Питер можно написать, – Питер особенно любили говорить студенты из левых, а также горничные. Читаем рассказ Зощенко „Любовь“. Глупенькая фальшь. Некто Гришка, рабочий[,] любит чужую жену. Любовь эта не без коммунистической изюм[и]нки – но и не без пресловутого „люблю, жалею [“], – т. е. простой русский человек говорит „жалею ее“ вместо „люблю“. Гришка бьет по зынзылу – сиречь морде [—] матроса-клеш за то[,] что тот отзывается о политике пренебрежительно. Гришка охотно целует грязный снежок на сапожке „яс[о]чки“ – сиречь любимой – и не менее охотно дебоширует. Ах, эти русские, и поклоненье перед женщиной, и дебош, и убийство!.. Удивительная нация [!]».
339
В 70-е гг., когда книги Набокова уже проникли в СССР, распространялись в самиздате и оказывали влияние на советскую литературу, о чем Набокову рассказывал, например, глава «Ардиса» К. Проффер, его отзывы о советских авторах (А. Солженицыне, И. Бродском) оставались сдержанными (ср. его каламбур в письме к Г. П. Струве от 21 апреля 1975 г.: «Я теперь подумываю о переводе „Ады“ на русский – не на совжаргон и не на солжурнальные штампы [sovjargon and soljournalese], – но на романтичный и точный русский <…>»). Исключением стала его высокая оценка «Школы для дураков» Саши Соколова в 1976 г. [Бойд 2010: 787].
340
Soviet Russian Poetry // New Directions in Prose and Poetry / Ed. by James Laughlin. New Directions: Norfolk, Conn., 1941. P. 513–650.
341
Еще раньше, в декабре 1925 г., т. е. незадолго до работы над первым своим обзором советской литературы, Набоков в рассказе «Путеводитель по Берлину» полемизировал с В. Шкловским и формалистами (см.: Ронен О. Пути Шкловского в «Путеводителе по Берлину» // Звезда. 1999. № 4. С. 164–172); орнаментальный стиль советских авторов Набоков пародировал в неозаглавленном и недатированном рассказе о нелегальном переходе советской границы, подписанном псевдонимом Василий Шалфеев (Набоков В. Человек остановился / Публ. Г. Барабтарло // Esquire. 2015. № 110. С. 26–28). Об этом рассказе, по-видимому, идет речь в письме Набокова к жене от 11 июня 1926 г.: «Вперемешку с докладом писал рассказик под теперешний „советский“ стиль. Если хватит нахальства, я его сегодня у Татариновых прочту, выдав его за русское изделье. А доклад занял двадцать восемь больших страниц <…> и вышел, кажется, недурно» (Набоков В. Письма к Вере. С. 105–106). Различные пародии Набокова на стиль советских авторов в стихах, романах и рассказах, рассмотренные А. Долининым, также следует отнести к его – непрямым – высказываниям о советской литературе (см.: Три заметки о романе «Дар» // Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина. Работы о Набокове. СПб., 2004. С. 245–267).
342
В «Арлекинах»: «Помню повисшее вдруг молчание и укромный обмен скептическими ухмылками, когда на приеме, устроенном в мою честь самым видным членом нашего английского отделения, я охарактеризовал большевицкое государство как обывательское во время передышки и скотское в действии; в международных отношениях соперничающее с богомолом в хищном притворстве; морочащее посредственностей своей литературой – сперва сохранив несколько талантов, оставшихся от прежней эпохи, а затем вычеркнув их собственной их кровью» [Набоков 2016: 144–145].
343
«Анюта, как затравленная волчица, была близка к припадку» (Гладков Ф. Цемент / Собр. соч.: В 5 т. М.: Художественная литература, 1983. Т. 1. С. 211).
344
The New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Miscellaneous first drafts.
345
В этой пьесе содержатся отсылки к стихам Пастернака из сб. «Сестра моя – жизнь» (упомянутого в рассказе Набокова «Тяжелый дым»), кроме того, некоторые черты громкого поэта Клияна также напоминают Пастернака, однако мнение А. Долинина о том, что «само имя вождя революции Тременс <…> в „Морне“ иронически отвечает на „Высокую болезнь“ Пастернака, которая была опубликована в первом – „ленинском“ – номере „ЛЕФ“ а за 1924 год» (Долинин А. Истинная жизнь писателя Сирина. С. 36), несостоятельно. Этот номер журнала вышел позднее окончания «Трагедии господина Морна» 26 января 1924 г. и стихи Пастернака никак не могли повлиять на нее. См. письмо Пастернака к Н. Тихонову от 21 апреля 1924 г., в котором он говорит, что «Высокая болезнь» «вскорости выйдет в „Лефе“» (Борис Пастернак. Из переписки с писателями / Предисл. и публ. Е. Б. и Е. В. Пастернаков // Литературное наследство. Т. 93. М.: Наука, 1983. С. 669).
346
Прототипом Орлова послужил берлинский знакомый Набокова прозаик А. М. Дроздов, уехавший в 1923 году в СССР, где он заведовал отделами прозы в «Новом мире» и «Октябре» [Набоков 2016: 331].
347
Что объясняется, кроме прочего, и той специфической зыбкостью советского литературного процесса, которую отметил Адамович: «Нелегко разобраться в современной советской беллетристике. Иногда думаешь: Бабеля я читал, Пильняка, Леонова, Серапионов, Сейфуллину, Романова читал, – значит, новую литературу я знаю. Но тут же попадается под руки „полное собрание сочинений“ какого-нибудь Петрова или Смирнова, со статьей Сидорова или Иванова, доказывающего, что именно Петров-то и есть самый главный, самый лучший, самый передовой советский писатель» (Адамович Г. Литературные беседы // Звено. 1926. 6 июня) [Адамович 2015: 331–332].
348
Разумеется, Набоков не мог познакомиться со всеми яркими советскими авторами, но сочинения, к примеру, Булгакова, Лунца, Тынянова (напечатанного в парижском журнале «Версты») в 20-х гг. выходили на Западе, обсуждались в кругу эмигрантов и, вероятнее всего, были ему известны. О том, что Набоков в Америке, по крайней мере, читал о Булгакове, свидетельствуют его пометки на статье Джона Гасснера «Бродвей 1941: Европа и Американский театр» в мартовском номере «Atlantic Monthly» за 1941 г., сохраненной Набоковым в его подготовительных материалах к лекциям «Советская драма». Против следующих слов Гасснера на с. 330: «<…> булгаковская трагедия об уничтоженной аристократии „Дни Турбиных“ может стать знаменитой реалистической драмой на любом языке; и хотя многие советские пьесы испорчены утилитарным подходом к искусству, они приобретают значение, далеко превосходящее их искусственную драматургию, поскольку показывают проблемы индивида в условиях коллективизма» (подчеркнуто Набоковым) – Набоков написал: «Accepted!» (Согласен!) (Перевод мой).
349
Nabokov V. Selected Letters. 1940–1977 / Ed. by D. Nabokov and M. J. Bruccoli. San Diego et al.: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. P. 37 (Перевод мой). В этом издании дата письма указана ошибочно: 10–II–1941. В оригинале письма, хранящемся в Berg Collection, значится 10 января.
350
Его вычеркнутое имя вместе с автором «Санина» указано в рукописи доклада «Несколько слов об убожестве…» в связи со следующим местом из рассказа Пильняка «Мать сыра-земля»: «Такие люди, как Некульев (читай: честный коммунист), стыдливы в любви – они целомудренны и правдивы всюду. Иногда во имя политики и во имя жизни они лгут, – это не есть ложь и лицемерие, – но есть военная хитрость, – с собою они целомудренно-чисты и прямолинейны и строги».
351
Примечательно, что в раннем рассказе Набокова «Говорят по-русски» (не ранее 1922 г.) герои-эмигранты, поймав в Берлине агента ГПУ и устроив ему пожизненное заключение в своей квартире, начинают его перевоспитание с художественной литературы: рассказывают ему о Пушкине, дают читать Жюля Верна и Крылова [Набоков 2016: 23–24].
352
О том же в 1927 г. писал Адамович, говоря о «единственно-действенном художественном методе, о единственно правильном <…> отношении к своему искусству», не зависящем от модных тенденций времени: «На слышащиеся же иногда заявления о „послевоенном ритме жизни“, о всеобщем ускорении, о влиянии аэропланов, спорта и кинематографа, на пошлости вроде того, что „нам некогда, мы захвачены стремительным и головокружительно-прекрасным темпом эпохи“, или „нас кружит механическая культура мировых городов“, – на весь этот модный вздор можно, думается мне, не отвечать» [Адамович 2015: 511].
353
Берлин И. Литература и искусство в России при Сталине // История свободы. Россия. М: Новое литературное обозрение, 2001. С. 394–395. Пер. Л. Лахути.
354
См. также другие вариации этого высказывания в обзоре Омри Ронена «Инженеры человеческих душ». К истории изречения (Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб.: Гиперион, 2002. С. 164–174).
355
Эти мысли Адамовича в статье «План» (Последние новости. 1933. 23 ноября) отвечали многочисленным замечаниям Ходасевича и др. эмигрантских критиков.
356
В июльском номере журнала была опубликована короткая статья Карсон Мак-Каллерс «Русские реалисты и литература американского юга», в которой рассматриваются русские классики XX в. и ни слова не сказано о литературе советской.