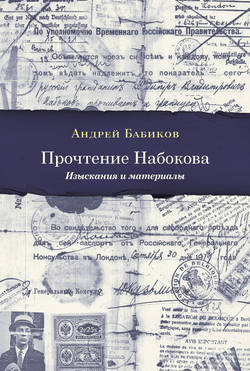Читать книгу Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - Андрей Бабиков - Страница 8
В мастерской ван Бока
Берлинские сумерки
Предисловие к публикации архивного рассказа
ОглавлениеВ 2004 году, разбирая рукописи Владимира Набокова, хранящиеся в Библиотеке Конгресса США, в поисках материалов для собрания драматургии писателя, я обнаружил рукопись неизвестного мне рассказа «Наташа»[301]. Относящийся к началу 20-х годов прошлого века, неопубликованный и неизученный, этот рассказ был лишь кратко пересказан Брайаном Бойдом на страницах написанной им биографии Набокова, недавно вышедшей и по-русски. Просмотрев эти пятнадцать листов линованной бумаги, исписанной тонким пером автора «Трагедии господина Морна» и «Приглашения на казнь», я понял, отчего рукопись столь долгое время оставалась под спудом. Стремительно, в «одно касание» написанный черновик пестрел изысканной в своей изощренности правкой. Микроскопические вставки и уточнения, целые предложения, вымаранные, а затем вновь возвращенные к жизни путем подчеркивания, озерцо кляксы, в котором тонет не раз переправленное слово, к тому же еще всякие другие неприятности – небрежный синтаксис, описки, пропуски…
Взять на себя труд по его восстановлению мог, конечно, лишь русскоязычный исследователь, но к тому времени таковых побывало в архиве Набокова совсем немного; для западного же ученого, пусть отчаянно любящего Набокова и отлично владеющего русским, то была бы нелегкая задача. Мало того что надо знать русскую, с «ятями» и «ерами», орфографию, которой Набоков придерживался до конца жизни, у исследователя должен быть еще развит особый навык чтения его руки «с листа». Работа с набоковским эпистолярием и автографами его ранних сочинений давала мне, как я полагал, все эти преимущества. Прочитав рукопись и уверившись, что, несмотря на кажущуюся безнадежность предприятия, рассказ восстановить все-таки можно, летом 2006 года я сделал его первую редакцию и послал сыну писателя для решения его судьбы. Со многими неясными строками удалось совладать уже тогда, другие продолжали упорно сопротивляться, сколько я ни рассматривал словесную вязь сквозь линзу увеличительного стекла.
Невзирая на явную неотделанность, вполне «рабочее» и в бунинском духе название (ср.: «Клаша», «Таня», «Руся» и др.), вместо которого, реши Набоков все-таки напечатать его, стояло бы, вероятно, что-то более отвлеченное и ёмкое, несмотря на многие неловкие строки, выдающие еще неискушенного автора, это сочинение, на мой взгляд, безусловно, заслуживало извлечения из кипы набоковских черновиков. Сама по себе «живучесть» рукописи, уцелевшей в многочисленных переездах на разных континентах и пролежавшей среди бумаг писателя восемьдесят с лишком лет, намекала на особую важность ее для автора, если не художественную, то личную. И может быть, о чем-то очень значительном могла бы по секрету сказать увлеченному Набоковым читателю.
Сыну писателя рассказ показался весьма интересным, и было решено готовить его к публикации – русской и английской. Общими усилиями и во многом благодаря исключительно чуткому и внимательному прочтению рассказа блестящим переводчиком и истолкователем Набокова Геннадием Барабтарло удалось разобрать почти все оставшиеся спорные или трудные места, после чего Дмитрий Набоков бережно перенес «Наташу», со всеми предметами обстановки и оттенками, сперва на итальянский, а затем на английский и выпустил ее в «Нью-Йоркере», в котором в свое время печатал свои английские рассказы Набоков.
Одно из таких трудных мест – нечетко написанная дата рассказа – скорее 1921, чем 1924 год, – послужило поводом для оживленной дискуссии среди исследователей (Д. Набоков, Д. Циммер, Г. Барабтарло), в результате которой он был опубликован в английском переводе Д. Набокова в «Нью-Йоркере» с указанием «около 1924 г.» (в биографии Набокова, написанной Б. Бойдом, указан 1924 год). Нехарактерная для сочинений Набокова середины 20-х годов прямолинейная трактовка темы потусторонности склоняла меня к мнению, что рассказ этот – из числа самых ранних и не мог быть написан в один год с такими зрелыми вещами, как «Картофельный Эльф» или «Трагедия господина Морна». Однако замеченные мною гомологичные места в «Наташе» и в рассказе «Пасхальный дождь» (весна 1924 года) подтверждают, что рассказ был написан, вероятнее всего, все же в 1924 году. Вот это место в «Наташе»: «Отец ее нагнул голову в другую сторону и очень тихо, очень взволнованно сказал: „Душенька, сегодня в газете есть что-то изумительное“»[302]. А так в «Пасхальном дожде»: «<…> и входил кто-то, похожий не то на Платонова, не то на отца Элен, – и, входя, развертывал газету, клал ее на стол <…> И Жозефина знала, что там, в этой газете, какая-то дивная весть, но не могла, не умела разобрать черный заголовок <…>» (123).
Существует немало свидетельств того, что ранний Сирин в действительности не так прост, как это может показаться почитателю его зрелых произведений, снисходительно листающему пьесы или рассказы, написанные Набоковым в начале 1920-х годов. Как это ни странно сказать, порой он еще более скрытен и умышлен в самых ранних своих опытах, чем даже в сложных романах, которые его прославили. Дело в том, что знаменитое многоярусное искусство Набокова, увлекающее читателя в напряженный поиск сокрытых значений и тем, развилось из невинной домашней забавы, состоявшей в измышлении и отгадывании разного рода причудливых литературных задач, начиная с шутливых шарад на трех языках и до тончайших намеков на, скажем, «Гамлета», которыми обменивались прекрасно образованные Набоковы между собой. Многие такие литературные намеки и криптограммы, перенесенные Набоковым в свои ранние произведения и адресованные близким людям, не могли быть понятны постороннему. Впоследствии, став профессиональным писателем, Набоков еще многократно усложнил свою литературную игру, но зато придумал для нее и определенные нерушимые правила, держась которых, при известном уровне подготовки, раньше или позже загадку можно решить.
Немало тайного и личного есть и в этом рассказе. Так, странные переживания Наташи, которые можно назвать опытами метафизического ясновидения, напоминают происшедший с самим Набоковым случай с аршинным фаберовским карандашом, описанный им в «Даре» и «Других берегах», когда он, находясь дома после долгой болезни, мысленно сопутствует своей матери, поехавшей покупать ему подарок. И кстати сказать, тот эпизод в «Даре», в котором описывается полудействительная встреча Федора Годунова-Чердынцева со своим отцом, пропавшим в китайской экспедиции, имеет свой исток в «Наташе», которая завершается такой же потусторонней встречей героини со своим отцом. Вымышленные путешествия барона Вольфа по Африке напоминают о том, что молодой Набоков, будучи кембриджским студентом, и сам едва не отправился в научную экспедицию в Африку, и находят свое развитие в «Даре», где Федор со сверхчувственной ясностью воображает свои странствия по Китаю и Тибету. Надо заметить, что, как и в «Даре», в этом раннем рассказе материалом для экзотических выдумок Вольфа служит документальный источник. Нигде, кроме нескольких городов России, не бывавший, Вольф отчасти пересказывает увлекательные путешествия знаменитого Генри Стэнли, его приключения в Конго во время экспедиции по розыску пропавшего доктора Ливингстона. В книге Стэнли «Как я нашел Ливингстона» (1872) есть описание упомянутого Вольфом озера Танганьика, и встречи путешественника с африканским царьком, и исполинских деревьев.
Но этот обман скорее трогательный. Другой вопрос будет мучить всякого, кто внимательно прочитает рассказ. Существует ли некая глубоко скрытая связь между Наташиными «припадками прозрения» и вдохновенной ложью Вольфа о его встречах в Конго с удивительным колдуном? И сходится ли все это вместе в заключительных словах старика Хренова о какой-то «изумительной» новости, напечатанной в свежих газетах? Что это за новость? Имеет ли она отношение к загадке самой жизни? Возможно ли узнать эту новость, находясь по эту сторону действительности?
Примечание 2018 года
Одна из тематических линий этого раннего рассказа пунктиром проходит через многие сочинения Набокова, русские и английские. Героиню, приехавшую с Вольфом в берлинский пригород, на озеро, и оглядывающую дальний берег, охватывает острое чувство, будто они оказались в России:
Мягкий скат шел к озеру. Столбики деревянной пристани серыми спиралями отражались в воде. За озером были те же темные сосновые леса – но кое-где просвечивал белый ствол, желтый дымок: березка. По темно-бирюзовой воде плыли отблески облаков – и Наташе вдруг показалось, что они в России, что нельзя быть вне России, когда такое горячее счастие сжимает горло <…> (141).
В написанном год спустя рассказе «Драка», сосредоточенном как будто на живописной сцене в берлинской пивной, молодой русский эмигрант приезжает за город купаться в озере и также обращает внимание на плывущие по небу облака и противоположный берег. Исключенная из опубликованного текста рассказа, но имеющаяся в его частично сохранившейся рукописи (без заглавия), эта тема из «Наташи» находит свое развитие:
Я плыл, крепко зажмурившись, мечтая, что вот открою глаза и увижу не берлинское озеро, а черные текучие отражения русских ольх, синюю стрекозу на осоке, световую зыбь на сваях старой купальни (Цит. по: Примечания / Набоков В. Полное собрание рассказов. С. 724).
Вновь не в самом напечатанном тексте, а в его рукописи эта тема возникает затем в позднем русском рассказе Набокова «Лик» (1939), в котором она совмещается с темой забвения и потустороннего мира, но, что любопытно, как в «Наташе» и «Драке», по-прежнему связана с водной стихией:
Есть пьеса «Бездна» (L’ Abîme) известного французского писателя Suire. Она уже сошла со сцены, прямо в Малую Лету (то есть в ту, которая обслуживает театр, – речка, кстати сказать, не столь безнадежная, как главная, с менее крепким раствором забвения, так что режиссерская удочка иное еще вылавливает спустя много лет) (Там же. С. 477).
В черновике рассказа после слов «в Малую Лету» можно разобрать иное продолжение: «столь отличающуюся тем от большой, что напоминает, между прочим, наш Обводной канал или Фонтанку в осеннюю ночь» (Там же. С. 736). Если в случае «Драки» исключение Набоковым этой ностальгической ноты объяснялось, по-видимому, его желанием максимально обезличить рассказчика, представив его сторонним регистратором туземной берлинской жизни (как в мастерском рассказе того же 1925 года «Путеводитель по Берлину»), то в случае «Лика» – исчерпанностью этой темы метафорического перехода из эмигрантского мира и состояния в мир утерянной России в написанном незадолго до него аллегорическом «Посещении музея». Одним из связующих звеньев между двумя рассказами (а также замыслом тогда же задуманного «Solus Rex» с его героем-художником, создающим иллюстрации к поэме о далеком острове) служит упомянутый в «Лике» «известный французский писатель» Suire. Такой писатель нам неизвестен, но можно предположить, что Набоков подразумевал под этой маской (неслучайно используя оригинальное написание его имени) своего ровесника, художника-акварелиста, издателя и книжного иллюстратора Louis Suire, жившего на острове Ре в Атлантическом океане и регулярно экспонировавшего в Париже и провинции с 1931 года.
В этом рассказе молодой русский эмигрант, посетив с виду обычный провинциальный французский музей, проходит через множество помещений, совершая неосознанное путешествие в мир своих литературно-исторических представлений и фобий. После долгих блужданий он выходит из него не на улицу южного Монтизера, а «на волю, опять в настоящую жизнь», оказавшись «где-то на Мойке или на Фонтанке, а может быть и на Обводном канале» и сознает, что «это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная» (476). Лучшее, что может сделать герой, «полупризрак в легком заграничном костюме», это с большим риском и ценой неимоверных усилий выбраться обратно за границу.
В письме к редактору «Современных записок» Вадиму Рудневу от 8 августа 1938 года Набоков упомянул этот рассказ, носивший в то время еще иное название: фразу Набоков вычеркнул, но можно разобрать, что он написал: «Мой новый рассказ называется „Рубрика про“» [не дописано] – очевидно, он имел в виду газетную «Рубрику происшествий», намереваясь представить странное исчезновение и возвращение своего героя ординарным газетным репортажем[303].
Много позже, в итоговом английском романе, написанном в Швейцарии в 1974 году, Набоков возвращается к этому сюжету из «Посещения музея» (причем и тема русской реки вновь возникает, почти в тех же выражениях), зачин которого мы находим в архивной «Наташе». Рассказчик, старый русский эмигрант и двуязычный писатель, приезжает с подложным паспортом в Ленинград, где испытывает среди советской действительности чувство, противоположное тому, которое охватило героя «Посещения музея», странное чувство «некой иллюзии низкопробной реальности»:
Мне было известно от путешественников, что наш фамильный особняк более не существует, что даже сам переулок, в котором он стоял между двух улиц вблизи Фонтанки, исчез, растворился, подобно некой соединительной ткани в процессе органического разложения. Что же, в таком случае, могло всколыхнуть мою память? Этот закат с триумфом бронзовых облаков и фламингово-розовым таянием на том конце арочного проема над Зимней канавкой впервые был увиден, пожалуй, в Венеции. Что еще? Тени оград на граните? Говоря начистоту, только собаки, голуби, лошади да очень старые, очень тихие гардеробщики казались мне знакомыми[304].
301
«Наташа» (25–26 августа 1924 г.). Публикации оригинального текста предшествовала публикация рассказа, по подготовленной нами расшифровке рукописи, в итальянском переводе Дмитрия Набокова в «Io Donna», литературном приложении к газете «Corriere della Sera» (22 сентября 2007 г.).
302
Набоков В. Полное собрание рассказов. СПб., 2016. С. 143. Далее страницы этого издания приводятся в тексте.
303
«Единственно мне подходящий и очень мною любимый журнал…» В. В. Набоков / Публ., вступ. ст., примеч. Г. Глушанок // «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции / Под ред. О. А. Коростелева и М. Шрубы. В 4 т. М.: Новое литературное обозрение. 2014. Т. 4. С. 331.
304
Набоков В. Взгляни на арлекинов! СПб., 2016. С. 226.