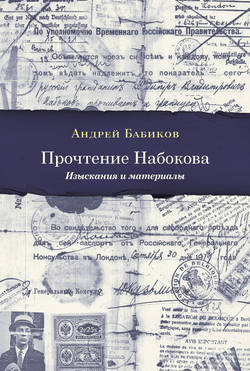Читать книгу Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - Андрей Бабиков - Страница 5
Театр Набокова и Rex Cinema
О внутреннем и внешнем действии драмы Набокова «Событие»
ОглавлениеПредварительные замечания
В предисловии к последнему своему драматическому сочинению, сценарию «Лолиты» (опубликован в 1973 году), Набоков признался, что по натуре он не драматург[149]. Это замечание само по себе ничего не скажет читателю набоковских романов и рассказов, заглянувшему в книгу его пьес, поскольку не раскрывает заложенной в нем мысли. Говоря так, Набоков подразумевал то привычное для широкой аудитории понятие драматургии, которое неразрывно связано с европейской театральной традицией и набором определенных условностей этого синтетического рода искусства. Понимать же его следует a contrario – следующий всем требованиям современного коммерческого театра драматург по своей природе далек от искусства; в том же направлении мыслей Набоков полагал, к примеру, что Достоевский по натуре был несостоявшимся драматургом. Те короткие стихотворные драмы, которые Набоков публиковал в начале 20-х годов («Скитальцы», «Смерть», «Полюс» и др.), относились к жанру пьес для чтения (Lesedrama) и не предназначались для постановки; большая «Трагедия господина Морна» (1924) вопреки его надеждам не только не была поставлена, но и не была издана при его жизни. Дебют Набокова-драматурга состоялся в 1927 году, когда Юрий Офросимов поставил в Берлине его драму из эмигрантской жизни «Человек из СССР»[150], и после ее единственного представления Набоков к драматургии не обращался десять лет. Неожиданный успех Сирина-драматурга связан с постановкой «Русским театром» в Париже «драматической комедии» «Событие» (1937), за которой вскоре последовала технически самая совершенная его драма «Изобретение Вальса», не попавшая на подмостки из-за начавшейся войны[151].
Неожиданность успеха «События», разумеется, мнимая. Освоенные Набоковым в тридцатых годах художественные приемы и методы не только предопределили его зрелую драматургию, обусловили и оправдали ее, но, в свою очередь, и две последние его пьесы отбросили неожиданно яркий свет на лучшие его романы 30-х годов, «Приглашение на казнь» (1936) и «Дар» (1938), и их отсвет заметен в последующих английских книгах Набокова.
Постановка «События» в Париже в марте 1938 года, осуществленная талантливым художником и режиссером Юрием Анненковым, учеником известного драматурга и теоретика театра Николая Евреинова[152], вызвала целый ряд откликов и оценок, из которых самым последовательным, хотя и предварительным, был разбор пьесы, проведенный Владиславом Ходасевичем, считавшим, что «Событие» «можно рассматривать как вариант к „Ревизору“»[153]. «Режиссер <…> вполне прав, когда делит всех персонажей на две части, – писал Ходасевич, – отнеся к одной – чету Трощейкиных, к другой – всех прочих, как бы порожденных или видоизмененных трощейкинским ужасом»[154]. Вместе с тем некоторые приемы Набокова не были оценены Ходасевичем, в первом отзыве на пьесу отметившим, что «ни в театре, ни в чтении не понял, чем мотивирована рифмованная речь Вагабундовой»[155].
Пьеса привлекала и продолжает привлекать внимание критиков как опыт оригинального беллетриста с драматической формой и традиционной европейской психологической драмой (в случае Набокова – без выраженного социального конфликта и с заметным влиянием символистской трагедии и лирических драм конца XIX – начала XX вв.). Тонкое замечание на этот счет было высказано сразу же после премьеры пьесы театральным критиком и режиссером Юлией Сазоновой, предложившей рассматривать «Событие» как «попытку создания нового сценического жанра»:
Попытки в таком роде уже делались на французской сцене молодыми авторами, бравшими тему одиночества и стремившимися передать в сценическом плане не внешние, а внутренние события, но до сих пор полностью осуществить такой замысел не удавалось. Характер творчества Сирина помог ему сделать такую попытку» (курсив мой. – А. Б.)[156].
Набоков, на наш взгляд, исходил не из французского, а скорее из отечественного опыта, поскольку попытки представить «внутреннее событие» предпринимались ранее и на русской сцене в постановках Евреинова в петербургском театре А. Р. Кугеля «Кривое зеркало». Еще в 1909 году Евреинов в своем «Введении в монодраму» обосновал понятие «субъекта действия» и указал на соотношение внутреннего и внешнего спектакля: «<…> монодрама задается целью дать такой внешний спектакль, который соответствовал бы внутреннему спектаклю субъекта действия»[157]. Последовательно отвергавший драматургический детерминизм и сценическое «правдоподобие» Набоков подчиняет события и поступки своих персонажей «логике сновидения», вводя тем самым, помимо оппозиции внутреннего и внешнего планов действия, онтологическую оппозицию каузального (правдоподобного, последовательного) и нелинейного (алогичного, субъективного) планов сюжета.
Рассмотрение внутреннего события набоковской пьесы сквозь призму его драматических приемов позволяет выявить некоторые важные особенности его зрелой драматургии в их соотношении с двуплановыми конструкциями его романов.
Madame la Mort
За внешним конфликтом в «Событии» – досрочное освобождение из тюрьмы Барбашина, поклявшегося из ревности убить провинциального портретиста Трощейкина и его жену Любовь, – скрывается внутренний, связанный со смертью его двухлетнего сына, о котором Трощейкин старается не вспоминать и о котором ему постоянно напоминают. Внутреннее действие пьесы разворачивается на фоне внешнего и знаменуется безуспешной попыткой Трощейкина вырваться из условно-театрального мира «второстепенной комедии» в мир подлинных чувств и отношений. При этом страх Трощейкина перед Барбашиным и непрерывная фантасмагория, порожденная этим страхом, искажают саму реальность, в которой главным событием является смерть его сына.
Несмотря на то что во многих сочинениях Набокова «скрытая (главная) история вплетена или помещена позади внешней, полупрозрачной» (что ему пришлось разъяснять редактору «Нью-Йоркера» К. Уайт в письме от 17 марта 1951 года в связи с рассказом «Сестры Вейн»), «Событие» следует отнести к одним из самых ранних его последовательных и удачных опытов с двойной сюжетной структурой, при которой внешний сюжет и конфликт вытесняется внутренним, скрытым или, говоря словами Юрия Лотмана, «автор определенными элементами построения своего произведения вызывает в сознании читателя ту структуру, которая в дальнейшем подлежит уничтожению»[158]. Позднее внутренний сюжет (с главным событием – гибелью дочери поэта Шейда), как убедительно показал Брайан Бойд[159], будет изобретательно завуалирован Набоковым в романе «Бледный огонь» (1962). На наличие двойной сюжетной структуры в пьесе, как нам представляется, довольно определенно указывает сам автор, вводящий в нее двойников, мотив зеркала и масок и предполагающий экстраполяцию художественного приема Трощейкина, писавшего портреты своих клиентов в двух различных манерах и замыслах, на само «Событие». Что известие о выходе из тюрьмы Барбашина, как и объявление о прибытии ревизора в гоголевской комедии, вызывает в самых разных персонажах пьесы неправдоподобно бурную реакцию и искажает условно-литературную реальность остросюжетного произведения, было замечено уже первыми эмигрантскими критиками. Однако и теперь встречаются трактовки пьесы, исходящие лишь из показного конфликта и внешней канвы ее сюжета, например: «В „Событии“ драматизируется неспособность семейства художника Трощейкина осознать в качестве „события“ реальную смертельную опасность, которую представляет для них освобождение из тюрьмы Леонида Барбашина <…>»[160].
Внутреннее действие предполагает наличие особого задания у автора, а у его персонажей – главной и тайной роли, исполняемой в соответствии с этим скрытым конфликтом драмы.
Первое напоминание об умершем ребенке возникает в связи с портретом «Мальчика с Пятью Мячами», который пишет Трощейкин. В начальной ремарке пьесы сообщается: «На низком мольберте, перед которым стоит кресло (Трощейкин всегда работает сидя), – почти доконченный мальчик в синем, с пятью круглыми пустотами (будущими мячами), расположенными полукольцом у его ног. К стене прислонена недоделанная старуха в кружевах, с белым веером»[161]. Трощейкин готовится к очередному сеансу и не находит трех мячей: «Ребенок придет сегодня позировать, а тут всего два» (там же)[162]. Действие начинается с поиска закатившихся под мебель мячей[163]. Любовь, живущую мыслями о сыне, детские мячи мучат нестерпимым напоминанием о нем: «Сегодня мамино рождение, значит, послезавтра ему было бы пять лет. Пять лет. Подумай» (360). Мысль, которая не приходит в голову Трощейкину, проста: число пропавших мячей равно числу прошедших после смерти сына утраченных, отсутствующих лет[164]. «Подумаешь – велика беда! – говорит она. – Ну – будет картина „Мальчик с Двумя Мячами“ вместо „Мальчик с Пятью“…» (359). Заявленная тема смерти сына уже не исчезает до конца действия пьесы, то выходя на поверхность, то глубоко уходя в подтекст. Впервые мотив мяча в связи со смертью мальчика возникает у Набокова в рассказе «Боги» (1923): «Мальчик пинком поддал мяч, кинулся в дом. <…> Снова тьмой наполнились твои глаза. Я понимаю, конечно, о чем ты вспомнила. В углу нашей спальни, под образом – цветной резиновый мяч»[165].
Вместе с портретом мальчика Трощейкин работает над портретом старухи с веером:
Трощейкин. <…> А мадам Вагабундова чрезвычайно довольна, что пишу ее в белом платье на испанском фоне, и не понимает, какой это страшный кружевной гротеск… (360).
Из дальнейших штрихов к ее образу становится ясно, что Вагабундова – сама Смерть, введенная в круг прочих персонажей. Ее особая роль подчеркнута складом ее речи, она говорит раёшным стихом балаганных прибауток и народных драм:
<…> я сама вдова —
и не раз, а два.
Моя брачная жизнь была мрачная ложь
и состояла сплошь
из смертей[166].
Трощейкин называет ее «мадам Вагабундова» (отметим анаграммы «вдова» и «ба[л]аган» в этом имени), но превалирующие в ее образе макаберные коннотации позволяют видеть в ней лишь олицетворение, изображение «госпожи Смерти» («vagabund» отсылает не только к бродягам-балаганщикам, но и к антропоморфным представлениям о старухе-смерти, которая бродит по свету[167]). В этом отношении Вагабундова напоминает персонажа пьесы Рашильд (наст. имя Маргерит Валетт) «Madame la Mort» (1891, перевод О. И. Петровской, под названием «Госпожа Смерть», и постановка в театре В. Ф. Комиссаржевской в 1908 году), в которой смерть предстает в образе «Женщины в вуали», а в авторском определении указывается, что «Это только образ, а не живое существо»[168]. Символистский прием персонификации смерти Набоков почерпнул, очевидно, из «Балаганчика» (1906) А. Блока, у которого смерть является в образе Коломбины. «Белое платье» Вагабундовой напоминает «белые пелены» Смерти-Коломбины. «Картонная подруга» Пьеро соотносится с портретом старухи в «Событии» – нарисованной Смерти (у Блока образ «картонной подруги» восходит к сценкам вертепа, где куклу Смерти представлял вырезанный из картинки скелет, подклеенный на картон, ее тень возникала на холсте), причем Трощейкин, как и Пьеро в «Балаганчике», не видит в образе Вагабундовой ее истинной роли – персоны смерти[169]. «Балаганчик» оказывается одним из наиболее значимых источников самого названия пьесы (отсылающего к подзаголовку «Женитьбы» Гоголя – «Совершенно невероятное событие в двух действиях») и ее канвы. В начале пьесы Блока «Третий мистик» говорит: «Наступит событие», а затем событием оказывается приход смерти: «Председатель. <…> Весь вечер мы ждали событий. Мы дождались. Она пришла к нам – тихая избавительница. Нас посетила смерть»[170]. Заметна линия и к «Непрошенной» М. Метерлинка (1891, перевод В. М. Саблина под названием «Вторжение смерти», 1903), где смерть предстает в образе Сестры Милосердия. В этой пьесе новорожденный кричит в момент смерти матери, о чем возвещает Сестра Милосердия. В «Событии» иначе: наряду с Вагабундовой, в пьесе, в полном согласии с ее двоящейся структурой, действует еще одна персона Смерти, акушерка Элеонора Карловна Шнап, принимавшая ребенка Любови. Последний раз она являлась на его похороны и теперь появляется вновь, чтобы присутствовать при смерти матери.
Балаганный подтекст в «Событии» (Любовь говорит: «Я не знаю, почему нужно из всего этого делать какой-то кошмарный балаган», 395) смешивается у Набокова с своеобразно воспринятым символизмом не без влияния Евреинова, искавшего возможности сценического обновления, с одной стороны, в обращении к «низовому» массовому зрелищу, в котором публика принимает самое деятельное участие, а с другой, – в превращении зрителя в «иллюзорно действующего» («Введение в монодраму»). Приемы народного театра Евреинов использовал, в частности, в своей знаменитой арлекинаде «Веселая смерть» (премьера в «Веселом театре для пожилых детей», 1909), второе направление впервые обозначилось в монодраме «Представление любви»[171].
Портреты в начальной ремарке пьесы вводят двух тайно действующих лиц пьесы – ребенка («дитя», «малютка», «младенец», «малый ребенок», «ребеночек» то и дело звучат в репликах персонажей) и Смерти (раздвоенной на персонажей с немецкими корнями – Вагабундову и Шнап), выступающих затем в зависимости друг от друга (Вагабундова «входит как прыгающий мяч»)[172]. Как в народном театре, с его метафорической парой рождения и смерти, Смерть у Набокова возникает в сцене торжества по случаю дня рождения (пятидесятилетия) матери Любови, карикатурно-бездарной литераторши Опаяшиной. Элеонора Шнап исполняет традиционную роль старухи-смерти, фигурирующей в театрализованных представлениях на празднествах Нового года, Масленицы, Урожая и прочих, «где требуется инкарнированный образ побежденной смерти»[173]. На празднествах и в народной драме эту старуху прогоняют участники представления, и так же Трощейкин требует гнать ее «в шею», а Любовь говорит: «Страшная женщина. Не надо ее» (387), но Опаяшина, своими мертвыми литературными опусами невольно поощряющая страшные образы пьесы, нарушает исходную схему: «Раз она пришла меня поздравить, то нельзя гнать». Речь Элеоноры Шнап, как и речь Вагабундовой, также выделена, но иначе – кошмарным немецким акцентом, и с первых же ее реплик возникает зловещее недоразумение (она является, конечно, не поздравить Опаяшину с юбилеем, а узнать подробности о готовящемся убийстве Любови и Трощейкина). В этом отношении Шнап напоминает другого народного персонажа – Немца в театре Петрушки, сценки с которым строились на недоразумении и битье[174].
С этой карнавальной линией образа немки-акушерки неожиданно или предсказуемо (если вспомнить рассказ Набокова «Истребление тиранов», 1938, в котором жестокий диктатор изображается смешным и тем самым уничтожается) пересекается политическая: Элеонора Карловна Шнап повторяет слова своего каламбурного «профессора Эссера» («Друг спознается во время большого несчастья, а недруг во время маленьких», 388), что заставляет вспомнить одну из самых одиозных фигур в окружении Гитлера – журналиста, идеолога нацизма Германа Эссера (Esser) (1900–1981), получившего скандальную известность в 20-х годах своими сексуальными похождениями и ярым антисемитизмом[175]. Один из редких случаев у Набокова упоминания деятеля нацизма вносит в пьесу, время и место которой не определены, момент злободневности, рассчитанный на непосредственный отклик публики, среди которой было немало евреев, в том числе друзей Набокова[176].
«Бывшая акушерка» Любови, как и старуха Вагабундова, призвана во внутреннем действии пьесы напоминать об умершем сыне Трощейкиных, что она и делает («Благодарите Бога, что ваш младенчик не видит всего этого», 388). Тетя Женя говорит о ней: «С этой стервой я не разговариваю. Кабы знала, не пришла…» (391), и если слово «стерва» во внутреннем действии пьесы подразумевает устаревшее значение «труп околевшего животного, скота; падаль, мертвечина, палая скотина» (Словарь Даля), то ему отвечают слова Трощейкина, назвавшего жену «торговкой костьём». В Словаре Даля находим: «костьём торгуем, костями с боен, либо от падали (на пережиг)». Любовь несколько раз затем с возмущением вспомнит эту «торговку», отвергая жестокое обвинение мужа в том, что она спекулирует на смерти сына, «торгует» его смертью[177].
Следующие напоминания о сыне Трощейкиных вводят ряд литературных отсылок. В начале третьего действия Трощейкину в тени листвы под окном мерещится Барбашин, и Любовь говорит: «Ты совсем как младенец из „Лесного царя“» (406). Сюжет баллады Гёте в переводе Жуковского «Лесной царь» (1818) об умирающем на руках отца младенце соотнесен с темой двоемирия в пьесе. В балладе дитя в ночном лесу видит другой мир – мир лесного царя / смерти, недоступный его отцу. Так и Трощейкин не понимает, что окружен смертью в образах Вагабундовой и Шнап, но необыкновенно остро переживает мнимую опасность мести Барбашина. Открывшийся младенцу мир лесного царя соответствует увиденному Трощейкиным другому миру в короткой сцене прозрения (во втором действии). Его ответ на реплику Опаяшиной, заметившей: «Какая ночь… Ветер как шумит…» (406), вторит словам отца из баллады Жуковского: «О нет, мой младенец, ослышался ты, / То ветер, проснувшись, колыхнул листы», и затем: «О, нет, все спокойно в ночной глубине: / То ветлы седые стоят в стороне». Трощейкин: «Ну, это по меньшей мере странно: на улице, можно сказать, лист не шелохнется» (там же). Владимир Александров тонко подметил, правда, вне связи с «Событием», что возникающий в произведениях Набокова «легкий ветерок можно рассматривать как пародию на распространенный (нередко в слишком очевидной форме) в символической литературе образ потусторонности, например в „Непрошеной“ М. Метерлинка <…>»[178]. У Набокова в «Событии» пародийность подчеркивается ироничным замечанием Трощейкина:
Антонина Павловна. Значит, это у меня в ушах.
Трощейкин. Или шепот музы (406).
Новый ряд напоминаний о смерти ребенка возникает с появлением сыщика Барбошина. Источник курьезного сходства фамилий Барбашина и Барбошина вновь находим в Словаре Даля, где, наряду с «барабошить» – будоражить, пугать, возмущать, – дается значение «барабоша» – бестолковый, суетливый, беспорядочный человек. Барабошь – вздор, пустяки, бестолочь, чушь, дичь[179]. Преступник Барбашин и «сыщик» Барбошин, эти семантические двойники, во внешнем действии пьесы отражают два ее плана, драматический и комедийный (двойственность замысла отражена и в самом подзаголовке «События» – «драматическая комедия»), и в равной степени нереальны, один воплощает мнимую опасность, и функция его сводится к будораженью, возмущению покоя Трощейкиных, другой воплощает мнимую защиту. Балаганная черта в образе Барбошина не менее заметна, чем у Вагабундовой. В пьесах народного театра о Петрушке известна сценка «Петрушка и Филимошка»:
Филимошка. Меня звать Филимошка.
Петрушка. Ах, какое хорошее имя – Барабошка.
Филимошка. Не Барабошка – Филимошка[180].
Схожим образом пререкаются Трощейкин с Барбошиным:
Трощейкин. Леонид Викторович Барбашин.
Барбошин. Нет-нет, не путайте – Барбошин Альфред Афанасьевич (412).
В фарсе, созданном воображением субъекта действия Трощейкиным, страшный Барбашин появиться не может, а может явится лишь его пародия, живописный шут. Ходасевич полагал, что «<…> Барбашин есть не что иное, как призрак, фантасмагория, болезненное порождение трощейкинской души <…>»[181]. В контексте общего влияния «Ревизора» на «Событие», Барбашина, так и не являющегося во плоти на сцене, можно рассматривать в связи с воспринятой Набоковым трактовкой Хлестакова как сна Городничего в статье Ходасевича «По поводу „Ревизора“» (Возрождение. 1935. 21 февраля). Отмечая успех постановки «Ревизора» пражской труппой МХТа в Париже (1935), Ходасевич приписывает эту трактовку Михаилу Чехову, исполнявшему роль Хлестакова. М. Чехов исходил из того, что «Городничий – это как бы кусок земли, твердый, тяжелый. А Хлестаков – фантазия, фантазия Городничего. Он не существует реально. Городничий от акта до акта как бы творит его»[182]. По мнению Ходасевича, «ревизор» Хлестаков «был лишь самообман городничего и его присных – и в этом не только весь психологический смысл пьесы, но и зерно ее смысла философского», и, что особенно близко к набоковскому Барбашину, Хлестаков «становится нереальным обликом реальности, отчего все произведение приобретает символический смысл и характер»[183]. В своем последнем завершенном романе «Взгляни на арлекинов!» Набоков описывает замысел постановки «Ревизора», по которому все происходящее не более чем «кошмар старого мошенника» Городничего, и само русское название пьесы возводится к французскому «rêve» – сон. Этот эпизод романа отсылает к постановке «Ревизора» М. Чеховым, но вместе с тем напоминает «Событие» и следующую пьесу Набокова «Изобретение Вальса», где Сон (в авторском английском переводе пьесы – Viola Trance) олицетворяется и становится действующим лицом. В «Николае Гоголе» (1944) Набоков заметил, что действующие лица «Ревизора» – «люди из того кошмара, когда вам кажется, будто вы уже проснулись, хотя на самом деле погружаетесь в самую бездонную (из-за своей мнимой реальности) пучину сна»[184]. Несмотря на то что в набоковской пьесе гоголевский сюжет выведен на передний план, потрясение в «Ревизоре» переосмысливается в «Событии» и во внутреннем плане действия: новость о появлении Барбашина влечет ревизию отношений и личности Трощейкина (Любовь замечает: «Слава Богу, что оно случилось, это событие. Оно здорово нас встряхнуло и многое осветило», 403). Наконец, трактовка Барбашина как призрака тождественна набоковской трактовке закулисного ревизора как последнего «фантома» гоголевской пьесы[185].
Как Вагабундова и Шнап – грубые балаганные двойники, нечто условно-макаберное, отдающее ходким символизмом, так Барбошин, в свою очередь, – условный литературно-театрально-оперный фантом[186] (на последнее указывают упоминаемый им Рубини, знаменитый итальянский тенор, и пропетая им фраза из партии Ленского в «Евгении Онегине» Чайковского – «Начнем, пожалуй…»[187]), во вздоре которого, буквально нашпигованном Достоевским (несостоявшимся, как мы помним, драматургом), звучат неосознанные, но настойчивые намеки на драматическую сторону события, а именно на смерть сына Трощейкиных.
С первой же его реплики («Не вам, не вам кланяюсь, а всем женам, обманываемым, душимым, сжигаемым <…>», 410), переиначившей обращенные к Соне Мармеладовой слова Раскольникова из «Преступления и наказания» («Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился»), вступают мотивы романов Достоевского, которые Набоков вслед за М. Волошиным считал несостоявшимися пьесами[188]. Затем он произносит короткую восторженную речь – пародию на знаменитый разговор Ивана с Алешей в «Братьях Карамазовых»:
О, вы увидите! Жизнь будет прекрасна. <…> Птицы будут петь среди клейких листочков, слепцы услышат, прозреют глухонемые. Молодые женщины будут поднимать к солнцу своих малиновых младенцев. Вчерашние враги будут обнимать друг друга. <…> Надо только верить… (412)[189].
Знаменитая антитеза «Братьев Карамазовых» о всеобщем счастье ценой жизни одного «ребеночка» проецируется на обстоятельства Трощейкина и приобретает личное значение: может ли он быть счастлив, если его ребенок мертв?
Для Любови смерть ребенка равнозначна отмене самой возможности семейного счастья («Единственное счастье – был ребенок, да и тот помер», 374), Трощейкин же видит угрозу своему благополучию только в появлении грозного Барбашина. В своем главном упреке мужу Любовь затрагивает эту тему:
Я вполне допускаю, что ты был счастлив со мной, потому что в самом большом несчастье такой эгоист, как ты, всегда отыщет себе последний верный оплот в самом себе. <…> Это очень страшно сказать, но когда мальчик умер, вот я убеждена, что ты подумал о том, что одной заботой меньше (404).
Слова Трощейкина о сыне: «Ну – пять, ну – еще пять, ну – еще… А потом было бы ему пятнадцать, он бы курил, хамил, прыщавел и заглядывал за дамские декольте» и далее: «Ты здраво посмотри: умер двух лет, то есть сложил крылышки и камнем вниз, в глубину наших душ, – а так бы рос, рос и вырос балбесом» (361. Курсив мой. – А. Б.) развивают мысль о «солидарности в грехе» детей с отцами из «Братьев Карамазовых», поскольку дети все равно вырастут грешниками, против чего у Достоевского выступает Иван:
Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж, конечно, правда эта не от мира сего <…> Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос… (222–223. Курсив мой).
Анри Бергсон заметил, что «Задача драмы находить и выводить на свет те глубины действительности, которые скрыты от нас – часто к нашему же благу – жизненной необходимостью <…>» и что драма должна «раскрыть нам глубоко скрытую часть нас самих – то, что можно было бы назвать трагическим элементом нашей личности»[190]. В «Событии» открытию трагической основы представления, заключенной в оболочку фарса, служит литературный подтекст, аллюзия или отсылка к определенному произведению, то есть все те элементы поэтики Набокова, которые, как можно видеть, преодолевают у него ограничения, налагаемые диалогической формой пьесы. Учитывая трудность восприятия литературного намека во время спектакля, Набоков умело использует прием повтора наводящей фразы, естественный в драматургическом диалоге, но излишний в монологичной форме романа или рассказа. Тем самым он в некоторой степени компенсирует невозможность по ходу представления «перечитать и остановиться на этих строках». Так, во втором действии «События» Вера говорит Писателю, что встретилась с ним «на рауте у Н. Н.». Для произведения в любом другом жанре, от стихотворения до романа, этого прозрачного намека было бы достаточно, но в пьесе Набоков повторяет ключевую фразу и заостряет на ней внимание публики: «Писатель. На рауте у Н. Н. …А! Хорошо сказано. Я вижу, вы насмешница» (393).
В отмеченной многоточием паузе после отсылающих к «Евгению Онегину» слов актер изображает ту мыслительную работу по распознанию намека, которую должен совершить в этот момент хороший зритель (аналогичный набоковскому «хорошему читателю»). Следующее за паузой восклицание должно совпасть с моментом узнавания у зрителя, замечающего общее сходство между собранием гостей у Опаяшиной и собранием приглашенных на раут в доме князя N. в Гл. 8 «Евгения Онегина». Вместе с тем развитие в образе писателя Петра Николаевича черт пушкинского «сердитого господина» из XXV строфы этой главы романа остается в плане глубокого подтекста – за рамками возможностей постановки. Сходным образом в «Изобретении Вальса» Министр несколько раз называет Сальватора Вальса именем Сильвио, отсылающим к «фантастической драме в стихах» «Сильвио» (1890) Д. Мережковского, которая, как и «Изобретение Вальса», построена на мотивах драмы Кальдерона «Жизнь есть сон» (1635) и с которой «Изобретение Вальса» обнаруживает некоторые важные параллели. Но помимо драматургической отсылки, эти обмолвки призваны напомнить также, как заметил Роман Тименчик, пушкинского Сильвио из «Выстрела»[191]. В этом случае пушкинский подтекст остается в тени драматургического, вводящего мотивы «Сильвио» Мережковского и, через него, Кальдерона[192].
Не обращая внимания на «карамазовский» подтекст в речах Барбошина, Трощейкин не задумывается и над следующей его загадочной репликой: «Пойду, значит, ходить под вашими окнами, пока над вами будут витать Амур, Морфей и маленький Бром» (413). Кто этот «маленький Бром», названный наряду с римским божеством любви и греческим божеством сновидений? Быть может, Барбошин здесь невольно и смутно выдает что-то важное, и эта мифологическая тройка объединяет семью Трощейкиных в том составе, который соответствует идеальному (как в более поздней модели отношений поэта Джона Шейда с его женой, также потерявших единственного ребенка, но не любовь к друг другу и к нему и продолжающих сознавать его призрачное присутствие в своей жизни) внутреннему действию пьесы? Во-первых, Любовь (лат. amor – любовь), во-вторых, Трощейкина (Морфея-снотворца и сновидца: «Это, вероятно, мне все снится… Эта комната, эта дикая ночь, эта фурия» – 404) и, в-третьих, их маленького умершего сына: Бром – усечение от Бромий, одного из прозвищ Диониса, означающего «шумный». «Маленький шумный» намекает на мальчика, разбившего мячом зеркало («Страшный звон. Вбегает Трощейкин. <…> Гнусный мальчишка разбил мячом зеркало!»), и через него – на умершего сына Трощейкиных. Связью служит ключевая реплика Любови в конце второго действия: «Наш маленький сын сегодня разбил мячом зеркало» (399).
Щель
В зачине пьесы Трощейкин, выйдя на авансцену, рассказывает жене о картине, которую он задумал ночью во время бессонницы:
Написать такую штуку, – вот представь себе… Этой стены как бы нет, а темный провал… и как бы, значит, публика в туманном театре, ряды, ряды… сидят и смотрят на меня. Причем все это лица людей, которых я знаю или прежде знал и которые теперь смотрят на мою жизнь. <…> Тут и мои покойные родители, и старые враги, и твой этот тип с револьвером… (361)[193].
И сразу отказывается от своей идеи: «А может быть – вздор. Так, мелькнуло в полубреду… Пускай опять будет стена». Стена, выражающая главный принцип театральной условности, проясняет замысел «События» в отношении оппозиции внутреннего и внешнего конфликтов.
В «немой сцене» пьесы замысел Трощейкина воплощается зеркально: гости застывают под чтение Опаяшиной, Трощейкин и Любовь выходят на авансцену и от собравшихся их отделяет средний занавес, на котором, как указано в ремарке, вся группа гостей должна быть «нарисована с точным повторением поз» (398). Затем Трощейкин говорит: «Наконец, я сам это намалевал, скверная картина – но безвредная» (399). Разница между замыслом и воплощением весьма существенна: по замыслу должны быть изображены знакомые ему люди – покойные родители, любовницы, Барбашин («тип с револьвером»), – сидящие в подобии зрительного зала, воплотилась же картина условных лиц, фигур, сидящих напротив зала, лиц, не выражающих ни досады, ни зависти, ни сожаления, – чувства, которые Трощейкину хотелось изобразить, – это только бесчувственные «маски» в «полусонных позах». Сопоставление замысла и воплощения наводит на мысль о том, что картина, задуманная Трощейкиным накануне события, – это замысел некой другой пьесы, с другими характерами, может быть, более глубокими, с другими отношениями, может быть, подлинными[194]. Автор Трощейкин, таким образом, противопоставлен автору Ф. Годунову-Чердынцеву, «штука» которого конгениальна «Дару».
Литераторша Опаяшина предлагает свое видение развития действия («ведь из всего этого могла бы выйти преизрядная пьеса») в пошлейшем драматическом русле («Может быть, он сам покончит с собой у твоих ног», 381). Любовь примеряет роль пушкинской Татьяны пополам с Анной Карениной («Я ему с няней пошлю французскую записку, я к нему побегу, я брошу мужа… <…> Набросок третьего действия», 410), но все эти травестийные варианты возникают под соответствующей оболочкой «второстепенной комедии», разыгранной Трощейкиным.
Такое понимание роли Трощейкина, творческому моменту которого подчиняются все прочие персонажи, согласуется с евреиновской концепцией субъекта действия. Евреинов указывал, что в монодраме «возможен только один действующий в собственном смысле этого слова, мыслим только один субъект действия». Окружающие его люди предстают перед зрителем преломленными в призме его сознания:
<…> остальных участников драмы зритель монодрамы воспринимает лишь в рефлексии их субъектом действия и, следовательно, переживания их, не имеющие самостоятельного значения, представляются сценически важными лишь постольку, поскольку проецируется в них воспринимающее «я» субъекта действия. На этом основании мы не можем в монодраме признавать за остальными участниками драмы значения действующих лиц в собственном смысле этого слова и по справедливости должны их отнести к объектам действия, понимая слово «действие» в смысле восприятия их, отношения к ним истинно действующего. <…> Они будут незаметны, [будут] сливаться с фоном или даже поглощаться им, если в тот или другой момент они безразличны для действующего[195].
Главная мысль Евреинова, что в монодраме характер являемой на сцене жизни изображается не с объективной точки зрения, «а с точки зрения героя пьесы или отдельных ее персонажей»[196], применима и к «Изобретению Вальса», где Вальс также является единственным субъектом действия[197].
Не выдержав упоминания о сыне (чья смерть напоминает ему о собственной смертности и о страшном Барбашине), когда Любовь говорит: «Наш маленький сын сегодня разбил мячом зеркало», Трощейкин «опускается» и, «сливаясь с жизнью», возвращается в состав застывших за его спиной персонажей второстепенной комедии. Настоящая опасность, о которой говорит Любовь («Опасность? Но какая? О, если б ты мог понять!» и в начале третьего действия: «Нет, я не об этой опасности собираюсь говорить, – а вообще о нашей жизни с тобой», 403) и которой не видит Трощейкин, это опасность навсегда остаться действующим лицом «второстепенной комедии», играя роль жалкого труса с претензией на оригинальное творчество. Ответом на подлинность чувств Трощейкина со стороны Любови явилось то, что она назвала умершего ребенка «нашим» («Наш маленький сын…»), а с возвращением Трощейкина в обстановку комедии она говорит о нем «мой» («Когда мой ребенок умер…»).
В задуманной картине должна была изображаться мастерская самого Трощейкина, одна из стен которой, а именно «стена», отделяющая зрительный зал от сцены, «реальная» для действующих лиц и мнимая для зрителей, исчезает – и мастерская, таким образом, превращается в сцену, на жизнь которой смотрят все те близкие ему и знакомые лица, которыми он пожелал заполнить ряды. В момент прозрения Трощейкин видит себя на «узкой освещенной сцене», ограниченной сзади «масками второстепенной комедии», а спереди – «темной глубиной», в которой «глаза, глаза, глаза, глядящие на нас, ждущие нашей гибели» (398)[198].
Именно так, по принципу сценической иллюзии, противопоставлены замысел картины Трощейкина и момент прозрения: по его замыслу ряды публики должны были заполнить знакомые лица, и «стена», таким образом, должна была рухнуть; прозрение же открывает ему и ту истину, что «глаза, глаза, глаза» в темной глубине принадлежат неизвестным ему людям, которых создал некий Автор, а значит, и он сам, и эта публика в равной степени действующие лица некой Драмы, смысла которой он не может постичь. В «немой сцене», следовательно, «четвертая стена» остается нерушимой («Пускай опять будет стена», – говорит Трощейкин), а сценическая иллюзия только усиливается за счет включения публики в авторский замысел.
Свое законченное выражение тема «стены» как условия существования оппозиции двух миров получила в «Приглашении на казнь». Разрушение «стены» в системе набоковских образов, объединенных мотивом тела-дома (камеры или сцены), равносильно смерти. В «Приглашении на казнь» плоть и крепость равнозначны, снимая с себя тело, Цинциннат уподобляет его темнице и освобождает дух (глава II)[199]. В финале романа происходит именно разрушение «четвертой стены» в терминах театра, вместе с которой рушится мир (мир-театр) и субъект действия Цинциннат оказывается вне его пределов. Как заметила Ольга Сконечная в содержательных примечаниях к «Приглашению на казнь», одним из источников театральной составляющей замысла романа могла быть пьеса Евреинова «Самое главное». В гл. XIX палач торопит Цинцинната покинуть камеру, поскольку пришло время идти на эшафот, и тот говорит ему: «<…> я прошу <…> три минуты антракта, – после чего, так и быть, доиграю с вами эту вздорную пьесу». Сконечная замечает: «Цинциннат здесь как бы отвечает на реплику Директора в финале „Самого главного“: „Самое главное – это вовремя окончить пьесу“. Ср. также реплику одной из героинь: „Стало быть, по-вашему, если в пьесе сказано, что „отрубает ей голову“, вы и в самом деле мне голову отрубите?“»[200].
Любопытно, что эта реплика из пьесы Евреинова как будто находит свое применение у Набокова многие годы спустя в романе «Ада» (1969), в последней, пятой части которого так описывается постановка исторической картины со сценой гильотинирования короля:
Исключительный успех картины объяснялся тремя обстоятельствами. Во-первых, официальные церковные круги, озабоченные популярностью Терры у падких до сенсаций секстантов, попытались, разумеется, ее запретить. Во-вторых, зрителей приятно будоражил один короткий эпизод, который хитрый Витри решил не вырезать: в ретроспективной сцене, переносящей действие к революционным событиям старой Франции, незадачливый статист, исполнявший роль одного из подручных палача, так неловко пристраивал под гильотину комедийного актера Стеллера, игравшего брыкливого короля, что сам случайно лишился головы (перевод мой).
Связь этой настойчиво повторяющейся у Набокова темы перехода от иллюзорного плана к «реальному» с темой смерти была точно подмечена еще Ходасевичем:
<…> переход из одного мира в другой, в каком бы направлении ни совершался, подобен смерти. Он и изображается Сириным в виде смерти. Если Цинциннат умирает, переходя из творческого мира в реальный, то обратно – герой рассказа «Terra incognita» умирает в тот миг, когда, наконец, всецело погружается в мир воображения. И хотя переход совершается здесь и там в диаметрально противоположных направлениях, он одинаково изображается Сириным в виде распада декораций. Оба мира по отношению друг к другу для Сирина иллюзорны[201].
Обратно этому, в одном из лучших рассказов Набокова «Лик» (1938), герой и актер убежден, что умрет на сцене, но «смерти не заметит, а перейдет в жизнь случайной пьесы, вдруг по-новому расцветшей от его впадения в нее, а его улыбающийся труп будет лежать на подмостках, высунув конец одной ноги из-под складок опустившегося занавеса»[202]. В лекции «Ремесло драматурга» (1941) Набоков называет театр хорошим примером философской неизбежности существования «непреодолимой преграды, отделяющей „я“ от „не-я“», без «необходимой условности которого ни „я“, ни мир существовать не могут»[203]. «Преступление» Цинцинната, его «гносеологическая гнусность» (безнравственное с точки зрения этого мира знание о другом, подлинном мире, напоминающее в «Аде» такое же безнравственное с точки зрения общества знание истинной природы электричества, само название которого в романе заменяется различными эвфемизмами), в том и заключается, что он «непроницаем», как стена, собственно, он и есть стена, «препона» для прочих, и именно поэтому он единственный сущий в мире-балагане, где ходом представления беспрепятственно руководит обезличенная «публика»[204]. В соответствии с этим положением смерть Цинцинната есть разрушение преграды между «я» и «не-я», вследствие чего, согласно набоковской «формуле существования», дихотомия аннулируется. В балаганном мире «Приглашения» узник Цинциннат – единственный, кто соблюдает конвенцию «четвертой стены», в то время как все остальные «вольные» маски стремятся вовлечь его в представление, не имеющее ничего общего с драмой. Казнив Цинцинната, «публика» уничтожает последний оплот реальности, то воспринимающее и отражающее мир «я», без которого мира не существует. Цинциннат не остается один на сцене, как Пьеро в «Балаганчике» Блока, и сходит с «помоста» не в зрительный зал, от которого ничего не остается, а переходит в потусторонность, «в ту сторону», как сказано в романе. Ему открывается закулисный план бытия[205].
Иллюзорности мира за «стеной» в «Приглашении на казнь», как затем и в «Событии», отвечает мотив нарисованного зрительного зала (как в «Балаганчике» оказывается нарисованной на бумаге видимая в окне даль): «только задние нарисованные ряды оставались на месте» (глава XX). Рытье прохода в стене, вызвавшее у Цинцинната надежду на освобождение, оказалось мрачным розыгрышем: проход ведет в соседнюю камеру, что показывает мнимость разрушения «стены» в «тесных пределах» «тутошней жизни». В «Событии» смерть (разрушение «стены»), ожидаемая Трощейкиным с появлением Барбашина, так и не наступает – «реальность» лишь недолго сквозит в сцене прозрения.
Итак, возвращаясь к событию набоковской «драматической комедии», «четвертая стена», отделяющая в театре один мир от другого, нерушима, но само существование другого мира все же открывается Трощейкину. Авансцена, на которой находится Трощейкин с женой, в момент истины перестает быть частью сцены, потому что прозрачный средний занавес позади них перенимает функцию «четвертой стены», но она не становится частью зрительного зала, по отношению к которому Трощейкин и Любовь остаются посторонними. Гости Опаяшиной так же неподвижны, как зрители в зале, и уравнены с ними в статусе вымышленных лиц. Следовательно, реальность – лишь на «узкой освещенной сцене», но ей нет места в театре, где оба мира, актеров и зрителей, друг для друга иллюзорны. Она возможна только вне театра, по ту сторону театра жизни. Набоков, следовательно, создает такую модель театра, в которой оказываются противопоставленными не мир зрителя и мир актера, а этот мир (включающий дихотомию зритель / актер) и потусторонность. Ее проникновение в этот мир у Набокова прочно связывается с образом щели (в потустороннее) и актом прозрения. К примеру, в первой главе «Дара» Федор вспоминает, как, поправляясь после болезни (сама болезнь – «обращение к потустороннему»), он пережил приступ ясновидения и «потом, окрепнув, хлебом залепив щели, я с суеверным страданием раздумывал над моим припадком прозрения <…>» (30).
Образ щели в иной мир снова и снова возникает в сочинениях Набокова, написанных в самых разных жанрах. В «Приглашении на казнь» (гл. XV): «<…> и вот мелькнула впереди красновато блестящая щель, и пахнуло сыростью, плесенью <…> – щель пламенисто раздвинулась, и повеяло свежим дыханием вечера, и Цинциннат вылез из трещины в скале на волю»[206]. В стихотворении «Влюбленность» из романа «Взгляни на арлекинов!»: «<…> Покуда снится, снись, влюбленность, / Но пробуждением не мучь, / И лучше недоговоренность, / Чем эта щель и этот луч. // Напоминаю, что влюбленность / Не явь, что метины не те, / Что может быть потусторонность / Приотворилась в темноте»[207]. Симптомы недуга героя-писателя Вадима N. в этом романе весьма схожи с прозрением художника Трощейкина:
Нас было только шестеро в просторной гостиной, не считая двух подкрашенных девочек в тирольских платьях, присутствие, идентичность и само существование которых остается и по сей день привычной тайной – привычной, говорю я, поскольку такие зигзагообразные трещины на штукатурке свойственны темницам или теремам <…> нас было всего шестеро человек во плоти (и два маленьких призрака), но сквозь неприятные, полупрозрачные стены я различал – не глядя! – ряды и ярусы смутных зрителей <…>[208].
В рассказе «Лик», построенном на том же противопоставлении двух планов реальности по той же театральной модели, русский герой-актер, играющий во французской пьесе «Бездна» незначительную роль, «всякий раз ждал каких-то особых наград», которые «таились в каких-то необыкновенных щелях и складках, которые он угадывал в жизни самой пьесы, пускай банальной и бездарной до одури <…>» (курсив мой. – А. Б.)[209]. В этом рассказе театр и реальность меняются местами, роль в пьесе открывает Лику такие глубины его существования и такие возможности, которые скудная его жизнь ему не дает. Поэтому в своих мечтах Лик надеялся, что «в один смутно прекрасный вечер он посреди привычной игры попадет как бы на топкое место, что-то поддастся, и он навсегда потонет в оживающей стихии, ни на что не похожей, самостоятельной, совсем по-новому продолжающей нищенские задания драмы <…>»[210]. В конце рассказа, как и в «Приглашении на казнь», декорации фальшивой реальности распадаются, Лик попадает на то самое «топкое место» и умирает у кромки моря, «оживающей стихии» («вода жила, двигалась, грозила омочить ему ноги»[211]), к которой и обращено название пьесы «Бездна».
В отличие от Цинцинната и Лика, художник Трощейкин не ищет «щелей и складок» в своей жизни, но в конце второго действия порожденный его страхом фарс ненадолго уступает место подлинной драме, и на авансцене вдруг появляется странный персонаж в темных очках – торговец оружием Иван Иванович Щель.
Ближе всего к этой поразительной персонификации – репортер Сон из «Изобретения Вальса». Оба выступают и как действующие лица в составе Dramatis Personae, и как порождения воспаленного сознания главного лица, субъекта драмы. Сон не только персонификация сна, но и условие развития действия – сон, переходящий в кошмар (Вальс восклицает: «Сон, что это за кошмар!», 475), и не только условие действия отдельной пьесы, но и положение драматической концепции: в лекции «Трагедия трагедии» Набоков выделяет разряд сновидческих пьес («Ревизор», «Гамлет», «Король Лир»), в которых «логика сна или, возможно, лучше будет сказать, логика кошмара замещает <…> элементы драматического детерминизма»[212]. В тайном и главном сюжете «События» в образе Щеля одушевлена щель в потустороннее, и потому он может появиться на несколько мгновений лишь в тот момент действия, в который Трощейкин и Любовь оказываются одни на авансцене, на границе двух планов действия[213]. Саму идею персонифицировать щель в этом «спектакле в спектакле» (a-play-within-a-play) Набоков мог почерпнуть из шекспировского «Сна в летнюю ночь», где в поставленной ремесленниками интермедии о Пираме и Фисбе (в которой Шекспир высмеивает наивную попытку поколебать сценическую условность) лудильщик Рыло изображает собой стену и щель («crannied hole or chink»):
Стена. В сей интермедье решено так было,
Что Стену я представлю, медник Рыло.
Стена такая я, что есть во мне
Дыра, иль щель, иль трещина в стене.
Влюбленные не раз сквозь эту щелку
Все про любовь шептались втихомолку.
Известка с глиной, с камешком должна
Вам показать, что я и есть Стена.
А вот и щель – направо и налево:
Шептаться будут здесь Пирам и дева[214].
Образ щели у Набокова возникает как знак потусторонности, восприятие которой прерывает течение времени. В «Событии» моменту открытия иного мира соответствует остановка времени для гостей: перед выходом Трощейкиных на авансцену в ремарке указывается, что Рёвшин (любовник жены Трощейкина) «застыл с бутылкой шампанского между колен», а после окончательного «слияния с жизнью» средний занавес поднимается и «Рёвшин откупоривает шампанское». Для Набокова щель во времени[215] – прежде всего признак особого творческого подъема, результатом которого должно явиться естественное и гармоничное произведение[216]. Групповая картина Трощейкина не становится таким произведением, несмотря на «очень натуральные краски», и в качестве некой художественной компенсации на фоне трафаретно-символистского рассказа Опаяшиной об умирающем лебеде из уст Любови вдруг звучит строчка из Пушкина: «Онегин, я тогда моложе, я лучше…» (399).
Стена уплотняется немедленно с возвращением Трощейкина к его страхам, когда Щель сообщает о том, что приятель Барбашина купил у него пистолет. Средний занавес поднимается, и Щель превращается в вещественную, бытовую щель: «Мышь (иллюзия мыши), пользуясь тишиной, выходит из щели, и Любовь следит за ней с улыбкой» (400). Это авторское указание, все остроумие которого можно оценить, лишь сопоставив внутренние и внешние планы действия пьесы, невоплотимо в постановке и адресовано, следовательно, не зрителю, а читателю пьесы, которому следует задуматься о значении такой неожиданной подробности.
Две персонификации в «Событии» – Смерти и Щели в иной мир – в своем противопоставлении друг другу открывают глубокий замысел пьесы. С Вагабундовой / Шнап, с одной стороны, и Опаяшиной / Рёвшиным / Барбошиным, с другой, связано все то мертвое, фальшивое, что удается на миг преодолеть Трощейкину – своим творческим воображением преодолеть смерть. Щель же, олицетворяя собой опасность, в действительности намекает на освобождение и спасение, выход из второстепенного мира иллюзий в мир истинных сущностей и отношений. Но героям «События», в отличие от героя «Приглашения на казнь», нет спасения – щель в иной мир, приоткрывшись, превращается в мышиную щелку, и «жизни мышья беготня» продолжится теперь до конца, поскольку последний ее возмутитель, смелый и искренний Барбашин, так и не появившись на сцене, уезжает за границу навсегда.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Письмо Г. И. Гессена[217] к В. Набокову
Париж
7 марта 1938
Дорогой Володя,
Вчера был с папой на втором представлении «События». Было очень хорошо. Не знаю, кто этот идиот, который писал рецензию в П.<оследних> Н.<овостях>[218] Мне очень понравилась твоя вещица, я получил «большое удовольствие», много смеялся и был тронут – хотя бы прелестным сыщиком. Играли хорошо. Не верь никому, кто тебе скажет, что плохо играют. Прилагаю афишку с отметками по пятибал[л]ьной системе. Разве только Богданов в роли Пиотровск…[219], пардон, Трощейкина, слабоват, но вполне, вполне выносим.
ПУБЛИКА. Зе одиенс[220]. Мы сидели в I ряду. Налево, рядом с папой, Ходасевичи. Ему очень понравилось[,] и он много смеялся и дергал ножкой. Рядом со мной: некая семья, отец, мать, дочь в мехах. Когда во II д.<ействии> Ревшин приносит хризантемы и говорит: хризантемы – цветы писательские, хризантемы – темы, – то мой сосед с улыбкой: «вот дурак». (Непосредственное восприятие.) А уж в III д.<ействии> сосед мой был совсем недоволен и просто говорил: чепуха. А дочка откровенно говорила: ничего не понимаю.
Тенор Поземковский[221]: ведь в этой пьесе ни одной мысли. (Сам не слышал, но из достоверного источника.)
Р. Татар.<инова,> Ромочка и Эргаз[222]: довольны («но может быть мы пристрастны, потому что это – Сирин…»)
Одна дама сказала, что это совсем как в «Ревизоре», ведь и там Ревизор не приезжает (?)
Вообще тебя теперь окончательно ведут от Гоголя, Гоголя, Гоголя.
Анненков – молодец. Отличные костюмы и то, что называется атмосфера. Аплодировали то, что называю дружно, не слишком настаивая. После I и II действия занавес подымался [sic] (очень скорым ритмом, чтобы не дать остыть, набрать бы побольше) раз 6. В конце – меньше, спешили в вестиер[223] и на метро.
В метро. С легким евр.<ейским> акцентом (а пропо[224] Шнап – парфэ[225]) две дамы: «вам понравилось? Да. Вы понимаете, все-таки вещь, над которой надо задуматься. Вот и ему (на мрачного мужа в баске[226]) понравилось[,] а ему нелегко угодить» (да, вид у него такой).
С удовольствием бы посмотрел еще раз.
Фунды не было, но был очаровательный Зенз.<инов>[227] Впрочем, он больше давал разъяснения по поводу московск.<ого> процесса, который, кстати сказать, бьет все твои приглашения на казнь.
Ну вот, мой дорогой.
Прилагаю письмо, написанное 2-го и не отправленное по болезни, а потом забывчивости, – а титр де рансеньеман[228].
Папа, к сожалению все-таки мало слышавший, в восторге от спектакля и вспоминает: Над кем смеетесь, над собой смеетесь.
Вот, кажется, довольно полный отчет. Спешу отправить письмо.
Привет Вере и Бубу [229].
[Подпись: Г. Гессен]
149
Набоков В. Лолита. Сценарий / Пер., вступ. ст., примеч. А. Бабикова. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 30.
150
Впервые опубликована в издании: Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме / Сост., вступ. ст., примеч. А. Бабикова. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 313–356.
151
О русских театрах Парижа и их репертуаре тех лет см.: Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия. История и культурно-просветительская работа русского зарубежья за полвека (1920–1970). Париж, 1971. С. 283–284. Литаврина М. Русский театральный Париж. СПб.: Алетейя, 2003.
152
В 1910-е гг. Анненков сотрудничал с Евреиновым в петербургском театре «Кривое зеркало», иллюстрировал его программный труд «Театр для себя», создал декорации для постановки прославившей Евреинова пьесы «Самое главное» (1921).
153
Ходасевич В. «Событие» В. Сирина в Русском театре // Современные записки. 1938. № 66. С. 423–427. Влияние «Ревизора» отмечалось в ряде отзывов. Ю. П. Анненков заметил о «Событии», что «здесь яснее всего чувствуется гоголевская линия». Ему же принадлежит самая высокая оценка набоковской драмы: «<…> за последние годы в русской литературе „Событие“ является первой пьесой, написанной в плане большого искусства <…> Русские писатели разучились писать незлободневно для театра. Сирин пробил брешь. Его пьеса, при замене собственных имен, может быть играна в любой стране и на любом языке с равным успехом» («Событие» – пьеса В. Сирина (беседа Н. П. В. [Н. П. Вакар] с Ю. П. Анненковым) // Последние новости. 1938. 12 марта).
154
Ходасевич В. «Событие» В. Сирина в Русском театре. С. 426.
155
Ходасевич В. Книги и люди. <Рец.> Русские записки. Апрель—июль // Возрождение. 1938. 22 июля. Цит. по: Бабиков А. Примечания / Набоков В. Трагедия господина Морна. С. 592.
156
Сазонова Ю. В Русском театре // Последние новости. 1938. 19 марта. Цит. по: Бабиков А. Примечания / Набоков В. Трагедия господина Морна. С. 590–591.
157
Евреинов Н. В школе остроумия / Ред. А. Дейч, А. Кашина-Евреинова. М.: Искусство, 1998. С. 266.
158
Структура художественного текста / Лотман Ю. М. Об искусстве / Сост. Р. Г. Григорьев, М. Ю. Лотман. СПб.: Искусство—СПб., 1998. С. 278.
159
Бойд Б. «Бледный огонь» Владимира Набокова. Волшебство художественного открытия / Пер. с англ. С. Швабрина. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015.
160
Маликова М. Дар и успех Набокова // Империя N. Набоков и наследники. Сб. статей / Сост. Ю. Левинг и Е. Сошкин. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 28–29.
161
Набоков В. Трагедия господина Морна. С. 359. Далее цитаты из «События» и «Изобретения Вальса» приводятся по этому изданию с указанием страниц в тексте.
162
В цитатах из «События», если не оговорено иное, курсив принадлежит Набокову.
163
Ср. мотив потерянного мяча в «Даре», где он соотнесен с концепцией цикличного времени: «<…> если сборник открывается стихами о „Потерянном Мяче“, то замыкается он стихами „О Мяче Найденном“», что отмечается, как «черта модная в наше время, когда время в моде» (Набоков В. Дар. Изд. второе, испр. Анн Арбор: Ардис, 1975. С. 35. Далее цитаты из «Дара» приводятся по этому изданию с указанием страниц в тексте). Говоря «время в моде», Федор Годунов-Чердынцев имел в виду, конечно, «В поисках утраченного времени» М. Пруста, по замыслу которого седьмой роман цикла замыкает кольцо, поскольку за ним должно следовать написание автором своего первого романа, подобно тому, как в конце «Дара» героем излагается сюжет будущей книги, напоминающей «Дар». Осуществление, таким образом, предшествует замыслу – принцип, исповедуемый и Трощейкиным: «Видишь ли, они [мячи] должны гореть, бросать на него отблеск, но сперва я хочу закрепить отблеск, а потом приняться за его источник. Надо помнить, что искусство движется всегда против солнца» (360). «Событие» также закругляется мотивом мяча – в ремарке к действию третьему указано, что «Мячи на картине дописаны», следовательно, найдены.
164
Как заметил Семен Карлинский, раскрывший ряд чеховских реминисценций в «Событии», в судьбе Любови Трощейкиной обозначена параллель к Любови Раневской из «Вишневого сада», потерявшей семилетнего сына (Karlinsky S. Illusion, Reality, and Parody in Nabokov’s Plays // Nabokov: The Man and His Work / Ed. by L. S. Dembo. Madison, 1967. P. 187).
165
Набоков В. Полное собрание рассказов / Сост., примеч. А. Бабикова. 3-е изд., уточ. СПб.: Азбука, 2016. С. 38. В «Бледном огне» (1962) Набоков вновь обратится к мотиву призрака умершего ребенка и его игрушки, ср.: «And I love you most / When with a pensive nod you greet her ghost / And hold her first toy on your palm, or look / At a postcard from her <…>». В переводе Веры Набоковой: «А всего сильнее, я люблю тебя, / Когда задумчивым кивком ты приветствуешь ее призрак, / Держа на ладони ее первую игрушку или глядя / На открытку от нее <…>» (Набоков В. Бледный огонь / Пер. В. Набоковой. СПб.: Азбука-классика, 2010. С. 40–41).
166
С. Сендерович и Е. Шварц трактуют образ Вагабундовой как «персонификацию балагана смерти». «Она пришла посмотреть на смерть героя, и смерть – ее главная тема <…> О ее балаганном происхождении говорит ее фамилия – старинные кукольники-балаганщики были бродягами, вагабондами, или, на немецкий лад, вагабундами» (Сендерович С., Шварц Е. Балаган смерти: заметки о романе В. В. Набокова «Bend Sinister» // Культура русской диаспоры: Владимир Набоков – 100 / Ред. И. Белобровцева, А. Данилевский. Таллинн, 2000. С. 356). Ср. в «Лолите» ситуацию Гумберта, дважды вдовца, а также в романе Набокова «Взгляни на арлекинов!» маску героя: «Mr. Twidower», в которой значимо каламбурное прочтение «twice widower» – дважды вдовец.
167
Это имя Набоков мог почерпнуть из пьесы Н. А. Потехина «Наши в Париже» (1864), усиленно занимаясь литературой шестидесятых годов для четвертой главы «Дара». Потехин в своих сценах вывел Аполлона Григорьева в карикатурном образе славянофила Аполлона Вагабундова. Ср. в словах Барбошина реминисценцию популярного романса на стихи А. Григорьева «О, говори хоть ты со мной…»: «<…> вы так хороши и ночь такая лунная» (412).
168
Французский символизм. Драматургия и театр / Сост., коммент. В. Максимова. СПб.: Гиперион, 2000. С. 86. Ср. персонификацию смерти в образе Стеллы в ранней драме Набокова «Смерть» (1923).
169
Как было замечено, «Вдова Вагабундова <…> появляется в балагане Набокова в pendent к Невесте-Смерти с косой в „Балаганчике“ Блока» (Сендерович С., Шварц Е. Вербная штучка. Набоков и популярная культура. (Статья вторая) // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 213); позднее исследователи добавили, что в «Событии» «ждут смерти в лице ревнивца с револьвером и не замечают ее появления в лице Вагабундовой, постаревшей и овдовевшей блоковской Невесты / Смерти» (Сендерович С., Шварц Е. Балаган смерти: заметки о романе В. В. Набокова «Bend Sinister». С. 357).
170
Блок А. А. Полное собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Наука, 2014. Т. 6, кн. 1. С. 8, 13.
171
Евреинов Н. В школе остроумия. С. 272.
172
В постановке Г. С. Ермолова в 1941 г. («Театр русской драмы», Нью-Йорк) эта зависимость была выдвинута на первый план: в эскизах М. В. Добужинского к декорациям «События» (воспроизведены в сборнике: Nabokov V. The Man from the USSR and Other Plays / Intr. and transl. by Dmitri Nabokov. New York et al.: Harcourt Brace Jovanovich, 1984. P. 264) в мастерской Трощейкина стоит скелет в женской шляпе и рядом с ним – портрет мальчика с пятью круглыми пустотами (в действии третьем они закрашены); Д. В. Набоков, переведший пьесу на английский язык, указывает, что эскизы включали также «фальшивый фотопортрет, предположительно умершего ребенка Трощейкина» (Nabokov V. The Man from the USSR and Other Plays. P. 125). Замечательно, что на стене мастерской Добужинский изобразил большое человеческое ухо, намекающее как на постоянное ожидание новостей о Барбашине, так и на важность вслушивания в реплики действующих лиц для улавливания подтекста.
173
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. С. 208.
174
Ср.: «Недалеко от раёшника Петрушка ударяет немца дубинкой по голове. Немец кричит: „Доннэр вэттер!“, а Петрушка в ответ гнусавит: „Вот тебя и сдует ветер“» (Алексеев А. Воспоминания / Петербургские балаганы / Сост., вступ. ст. и коммент. А. М. Конечного. СПб.: Гиперион, 2000. С. 89).
175
Отто Штрассер назвал его «сексуальным маньяком» и «демагогом самого низкого пошиба». Эссер вместе с Юлиусом Штрайхером «организовал „Антисемитское движение“, где они дали выход своей болезненной сексуальности, произнося непристойные речи, обличающие евреев во всех смертных грехах» (Штрассер О. Гитлер и я. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. С. 79–80).
176
В написанной вскоре после «События» драме «Изобретение Вальса» (1938), посвященной, кроме прочего, теме диктатуры, Набоков включает ряд намеков на деятелей фашизма и советской тирании: Сталина, Ежова, Муссолини.
177
Любовь говорит своей сестре Вере: «<…> я сегодня вспомнила моего маленького, – как бы он играл этими мячами, – а Алеша был так отвратителен, так страшен!» (374).
178
Александров В. Е. Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика / Пер. с англ. Н. А. Анастасьева. СПб.: Алетейя, 1999. С. 92. Александров имеет в виду следующее место в «Непрошеной» (пер. К. Бальмонта): «Дед. Легкий ветер в аллее? Дочь. Да, деревья слегка дрожат» (Французский символизм. Драматургия и театр. С. 114). В «Событии» обыгрывается другое место: «Дед. <…> Откуда эти звуки? Старшая Дочь. Это лампа вспыхивает, дедушка. Дед. Мне кажется, что она очень тревожная… очень тревожная… Дочь. Это ветер ее качает… Дядя. Ветра нет, окна закрыты» (Там же. С. 124).
179
Фамилии Рёвшин и Барбашин (наряду с Чердынцевым, Качуриным и Синеусовым) Набоков почерпнул из списка угасших русских аристократических родов, которым с ним поделился его берлинский знакомый Н. Яковлев еще в 20-х гг. (Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. Биография. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 300).
180
Русский фольклор. М.: Олимп, 1999. С. 346.
181
Ходасевич В. «Событие» В. Сирина в Русском театре. С. 425.
182
Перед представлением «Ревизора»: Беседа с М. А. Чеховым // Возрождение. 1935. 27 января. Цит. по: Комментарии / Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. / Сост., коммент. И. П. Андреевой, С. Г. Бочарова и др. М.: Согласие, 1996. Т. 2. С. 547.
183
Ходасевич В. «По поводу „Ревизора“». Цит. по: Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 340; 342.
184
Набоков В. Собр. соч. американского периода: В 5 т. / Сост. С. Ильина и А. Кононова. Пер. Е. Голышевой. Т. 1. 1997. С. 434.
185
Там же. С. 441.
186
Барбошин играет одновременно роль трагического актера («<…> входит Барбошин: костюм спортивный, в клетку, с английскими шароварами, но голова трагического актера <…>», 410) и шаблонного сыщика. Здесь Набоков следует за Евреиновым, у которого в «Самом главном» актер «на роли любовников» исполняет в «театре жизни» роль сыщика: «Ведь это мой первый дебют в роли сыщика! Я так волнуюсь, как никогда со мной на сцене не бывало» (Евреинов Н. Самое главное. Пг.: Государственное издательство, 1921. С. 24). Подробнее о влиянии «Самого главного» на «Событие» см.: Медведев А. Перехитрить Набокова // Иностранная литература. 1999. № 12. С. 227.
187
Схожим образом в «Приглашении на казнь» один из двух шуринов Цинцинната в его присутствии поет всевдоитальянскую фразу из оперной арии.
188
См.: Бабиков А. Изобретение театра / Набоков В. Трагедия господина Морна. С. 16.
189
Обыгрываются слова Ивана Карамазова: «Жить хочется, и я живу, хотя бы вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо <…> Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что!» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 209–210. Далее страницы из этого тома даются в тексте). Помимо этого, в «Событии» звучат финальные реплики Сони из чеховского «Дяди Вани», ср.: «<…> увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся <…> Я верую, верую…»
190
Бергсон Анри. Смех. М.: Искусство, 1992. С. 99–100.
191
Тименчик предположил, что сцена со взорванной верхушкой горы в окне министерского кабинета в первом действии «Изобретения Вальса» соотносится со сценой в графском кабинете, где в результате дуэли Сильвио с графом оказалась попорчена одна из картин со швейцарским (значит, горным) видом (Тименчик Р. Читаем Набокова: «Изобретение Вальса» в постановке Адольфа Шапиро [в Рижском ТЮЗе] // Родник. 1988. № 10. С. 46).
192
Использует Набоков и визуальную театрально-драматургическую аллюзию: застывшие гости в «Событии» и куклы генералов за длинным столом в «Изобретении Вальса» – это, конечно, гоголевская немая сцена, но также отсылка к двум знаменитым постановкам В. Э. Мейерхольда – «Ревизора» и «Балаганчика». В его «Ревизоре» (1926) немую сцену изображали куклы: «Мы сделаем монтаж света, а потихоньку в глубине соберем куклы. <…> Дается штора. <…> Потом надо дать сигнал, по которому выедут все фигуры» (Мейерхольд репетирует. М.: Артист. Режиссер. Театр. Профессиональный фонд «Русский театр», 1993. Т. 1. С. 94–96). В «Событии» используется тот же прием среднего занавеса (применявшийся также Евреиновым в «Фундаменте счастья» в сцене появления Смерти). В «Балаганчике» Мейерхольда: «На сцене <…> длинный стол, за которым сидят „мистики“ (Мейерхольд В. Э. О театре. СПб., 1912. С. 198); «<…> мистики так опускают головы, что вдруг за столом остаются бюсты без голов и без рук» (Мейерхольд и художники. М.: Галарт, 1995. С. 85). Набоков высоко ставил «Ревизора» Мейерхольда: «<…> русский режиссер Мейерхольд, несмотря на все искажения и отсебятину, создал сценический вариант „Ревизора“, который в какой-то мере передавал подлинного Гоголя» (Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 1. С. 431). Замечание о влиянии постановки Мейерхольда на «Событие» высказала Л. Червинская: «Пьеса очень напоминает гоголевского „Ревизора“ (особенно в постановке Мейерхольда), и не только по признакам внешним» (Червинская Л. По поводу «События» В. Сирина // Круг. 1938. Кн. 3. Цит. по: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. М., 2000. С. 174).
193
Сходным образом в завязке «Дара» Федор Годунов-Чердынцев задумывает свой будущий роман: «Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку» (10). В обоих случаях «штука» используется в значении: «искусно, мудрено, хитро сделанная вещь» (Словарь Даля).
194
Фарсовость торжества по случаю «юбилея» вполне осознается в этой сцене Трощейкиным, что явствует из его упоминания «Вампуки» («Нам нужно бежать… <…> Бежать, – а почему-то медлим под пальмами сонной Вампуки», 398) – ставшего нарицательным названия оперы-пародии «Вампука, невеста африканская, образцовая во всех отношениях опера» (музыка и либретто В. Г. Эренберга по фельетону А. Манценилова (М. Н. Волконского), премьера 1909). «Вампукой» называлось все искусственное, ходульное в театральных постановках. Евреинов вспоминал, что «В результате своего ошеломительного успеха „Вампука“ стала магическим словом, от которого сразу же зашаталось и рухнуло трафаретное оперное искусство, чтобы дать место противоположному, творчески оригинальному, а главное, елико возможно, естественному и убедительному искусству» (В школе остроумия. С. 76–77). Разговор Трощейкиных на авансцене отсылает к той сцене «Вампуки», в которой влюбленная парочка выходит к рампе, чтобы поделиться своим счастьем с публикой. В этот момент обнаруживается погоня, и Вампука начинает распевать: «Спешим же, бежим же! / Бежим же, спешим же!», – при этом не двигаясь с места (В школе остроумия. С. 97–98).
195
Евреинов Н. Демон театральности / Сост., коммент. А. Зубкова, В. Максимова. М.; СПб.: Летний сад, 2002. С. 110.
196
Евреинов Н. В школе остроумия. С. 264.
197
С концепцией Евреинова Набоков мог познакомиться по изданию: Евреинов Н. Н. Театр как таковой. Берлин: Academia, 1923, или по книге Е. Зноско-Боровского «Русский театр начала ХХ века» (Прага, 1925), а также лично, во время нескольких встреч с ним в Париже в 1932 г. О влиянии Евреинова на Набокова см.: Merkel L. Stephanie. Vladimir Nabokov’s King, Queen, Knave and the Commedia Dell’ Arte // Nabokov Studies. 1994. Vol. 1. P. 83–102; Alexandrov V. Nabokov and Evreinov // The Garland Companion to Vladimir Nabokov / Ed. by V. Alexandrov. N. Y. & London, 1995. P. 402–405; Сендерович С., Шварц Е. Набоковский парадокс о еврее // Петербургский сборник. Вып. 3. Парадоксы русской литературы / Ред. В. Маркович и В. Шмид. СПб.: Инапресс, 2001. С. 299–317.
198
Прозрение Трощейкина вновь соотнесено с «Ревизором». О мотиве «свиных рыл» в «Событии» Ходасевич заметил следующее: «Трощейкин <…> находится в состоянии того ужаса, который поражает городничего в конце. <…> страх, поражающий обоих, имеет общее действие: под его влиянием действительность не то помрачается, не то, напротив, проясняется для Трощейкина и его жены так же точно, как для городничего: помрачается, потому что в их глазах люди утрачивают свой реальный облик, и проясняется – потому что сама эта реальность оказывается мнимой, и из-за нее начинает сквозить другая, еще более реальная <…> И когда Трощейкин говорит, что „родные и знакомые“, собравшиеся вокруг, суть хари, намалеванные его воображением (его страхом), этот момент вполне соответствует воплю ослепшего или прозревшего городничего <…>» (Ходасевич В. «Событие» В. Сирина в Русском театре. С. 426).
199
Сергей Давыдов в работе «„Гносеологическая гнусность“ Владимира Набокова: метафизика и поэтика в романе „Приглашение на казнь“» указал на метафору «тела-тюрьмы» в романе в связи с гностическими представлениями (В. В. Набоков: Pro et contra. Антология [Т. 1] / Сост. Б. Аверин, М. Маликова, А. Долинин. СПб.: РХГИ, 1997. С. 478–479).
200
Сконечная О. Примечания / Набоков В. Собр. соч. русского периода. Т. 4. С. 632.
201
Ходасевич В. О Сирине (1937) // Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 392.
202
Набоков В. Полное собрание рассказов. С. 482.
203
Цит. по: Набоков В. Трагедия господина Морна. С. 499. Пер. А. Бабикова и С. Ильина. Ср. в статье «Искусство литературы и здравый смысл»: «Вы одновременно чувствуете и как вся Вселенная входит в вас, и как вы без остатка растворяетесь в окружающей вас Вселенной. Тюремные стены вокруг „эго“ вдруг рушатся, и не-„эго“ врывается, чтобы спасти узника, а тот уже пляшет на воле» (Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998. С. 474. Пер. Г. Дашевского).
204
Оппозицию мира подлинного миру-балагану символизирует в романе противопоставление ночной бабочки бутафорскому пауку. Бабочка (душа) – залог существования мира иного и заложница этого – отождествлена с Цинциннатом (она названа «пленницей»); после казни / распада она «улетит в выбитое окно, – так что ничего не останется от меня в этих четырех стенах» (гл. XIX. Курсив мой. – А. Б.). Как точно заметил Д. Бартон Джонсон: «Бабочка, в отличие от бутафорского паука, настоящая, и это продолжает оппозицию „театр / реальность“» (Джонсон Д. Б. Миры и антимиры Владимира Набокова / Пер. Т. Стрелковой. СПб.: Симпозиум, 2011. С. 214).
205
Примечательно, что Набоков, рассматривая закулисный план «Ревизора», соотносил его со сценическим планом, как потусторонность: «Потусторонний мир, который словно прорывается сквозь фон пьесы, и есть подлинное царство Гоголя» (Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 1. С. 441). В «Трагедии господина Морна» на балу появляется Иностранец «Из обиходной яви, / из пасмурной действительности» (Советской России), полагающий, будто все происходящее лишь его сон. Просыпаясь, он исчезает из действительности трагедии, а засыпая, появляется снова. Так Набоков вводит второй план реальности, оправдав дихотомию сновидческим характером происходящего (это соотношение планов повторяется в «Изобретении Вальса», где Вальс также предстает как иностранец-сновидец).
206
Набоков В. Собр. соч. русского периода. Т. 4. С. 148.
207
Набоков В. Взгляни на арлекинов! СПб.: Азбука, 2016. С. 31.
208
Там же. С. 190–191.
209
Набоков В. Полное собрание рассказов. С. 481.
210
Там же. С. 482.
211
Там же. С. 496.
212
Набоков В. Трагедия господина Морна. С. 504.
213
Образы щели и стены (щели в стене / теле / доме / мире) у Набокова составляют единый метафорически-метафизический комплекс и возникают в соотнесении друг с другом в момент осознания или проникновения запредельного. Ср. в «Приглашении на казнь»: «Казалось, что вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель, и уйдет туда <…>» (Набоков В. Собр. соч. русского периода. Т. 4. С. 119. Курсив мой. – А. Б.). В романе «Под знаком незаконнорожденных» (1947) потусторонность (авторский план) открывается в момент гибели Круга, и разделявшая оба плана метафорическая тюремная стена исчезает: «<…> Круг несся к нему, и как раз за долю мгновения до того, как другая и более точная пуля ударила в него <…> – и стена исчезла, как резко выдернутый слайд, и я потянулся и встал среди хаоса исписанных и переписанных страниц <…>» (Набоков В. Собр. соч. американского периода. Т. 1. С. 398. Пер. С. Ильина).
214
Акт V, сц. 1. Пер. Т. Щепкиной-Куперник.
215
Александров возводит образ щели во времени у Набокова к «системе выражений» П. Успенского: «<…> метафора, которой открывается „Память, говори“ – „здравомыслящий“ взгляд на жизнь как на „щель слабого света между двумя идеально черными вечностями“ <…>, – весьма близка системе выражений Успенского, когда тот поясняет, что „чувство движения во времени <…> возникает у нас оттого, что мы смотрим на мир сквозь узкую щель…“» (Александров В. Е. Указ. соч. С. 273–274). Александров имеет в виду следующий пассаж Успенского: «Нужно ли и можно ли признать на основании этого, что в мире совсем нет движения, что мир неподвижен и постоянен и что он кажется нам движущимся и эволюционирующим только потому, что мы смотрим на него сквозь узенькую щелку нашего чувственного восприятия?», и далее: «<…> разбирая сущность самого понятия движения, мы пришли к заключению, что движение совсем не очевидная вещь, что идея движения составилась у нас вследствие ограниченности и неполноты нашего чувства пространства (щелка, через которую мы наблюдаем мир)» (Успенский П. Tertium Organum. Ключ к загадкам мира. М., 2000. С. 95, 140).
216
Об этом писал Александров на примере английских мемуаров Набокова: «Способность сознания разрывать границы времени составляет ядро глубоких рассуждений о творчестве <…> Наиболее красноречивые строки продиктованы воспоминанием о том, как в раннем отрочестве автор, увидев каплю дождя, сбегающую с листа, сочинил первые свои стихотворные строки… И что особенно важно, Набоков вспоминает, что мгновенье, когда все это произошло, показалось „не столько отрезком времени, сколько щелью в нем“» (Александров В. Е. Указ. соч. С. 36). Этот мотив возникает у Набокова уже в 1920 г. в стихотворении «Люблю в струящейся дремоте…», ср.: «Еще не дышит вдохновенье, / а мир обычного затих: / то неподвижное мгновенье – / уже не боль, еще не стих» (Набоков В. Собр. соч. русского периода. Т. 1. С. 532–533).
217
Георгий (Зёка) Иосифович Гессен (1902–1971), сын И. В. Гессена, близкий друг Набокова (см.: Письма В. В. Набокова к Гессенам / Публ., вступ. заметка и примеч. В. Ю. Гессена // Звезда. 1999. № 4. С. 42–45). Письмо публикуется по машинописному оригиналу (две страницы, с исправлениями и рукописными вставками), отложившемуся в архиве Набокова в Библиотеке Конгресса США (Box 1, fol. 16). Набоков не смог приехать в Париж из Ментоны на представления «События».
218
К. П. [К. Парчевский] Русский театр: «Событие» В. Сирина // Последние новости. 1938. 6 марта. С. 5.
219
Имеется в виду, очевидно, берлинский знакомый Набокова поэт Владимир Корвин-Пиотровский (1891–1966).
220
The audience – публика.
221
Г. М. Поземковский (1892–1958), певец, педагог, режиссер, музыкальный деятель.
222
Р. А. Татаринова (1889–1974), критик, участница эмигрантских литературных объединений, берлинская приятельница Набокова. Ромочка – Рома Семеновна Клячкина (1902–1959), служила переводчиком во французском посольстве в Берлине, близкая подруга Набокова в начале 20-х гг. И. М. (Дуся) Эргаз (1904–1967), европейский литературный агент и переводчица (на французский) Набокова.
223
Vestiaire (фр.) – гардероб.
224
В отношении.
225
Безупречно.
226
По-видимому, имеется в виду жакет или куртка с широкой оборкой на талии (используется в мужской и женской одежде).
227
И. И. Фондаминский и В. М. Зензинов.
228
Для информации.
229
Имеется в виду четырехлетний сын Набоковых Дмитрий.