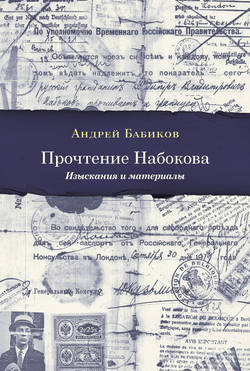Читать книгу Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - Андрей Бабиков - Страница 3
Метаморфоза как метафора
Образец и его отражение
«Университетская поэма» Набокова
Оглавление«Университетская поэма» (далее – УП), написанная Владимиром Набоковым в Берлине в декабре 1926 года, вскоре после завершения первого романа «Машенька», и опубликованная в лучшем эмигрантском журнале «Современные записки»[21], примечательна и как набоковский эксперимент с онегинской строфой, и как его попытка внести свой вклад в богатую онегинскую традицию.
Из ряда критических отзывов, в общем, скорее, поверхностно-восторженных (уничижительная оценка принадлежала Георгию Иванову, назвавшему поэму «гимназической», написанной «вялыми ямбами, лишенными всякого чувства стиха»[22]), своей основательностью выделяется замечание Михаила Кантора:
Большая (ок. 900 стихов) «Университетская поэма» Сирина – произведение виртуоза. Но есть литературные формы, окончательно себя исчерпавшие: к ним принадлежит стихотворная повесть, достигшая своего апогея в первой трети XIX века. Всякая попытка оживить этот жанр неизбежно отдает стилизацией, а в худшем случае пародией. Жаль, что талантливый поэт не учел этого[23].
Действительно, оправдать эксперимент с твердой формой, выраженное повествовательное начало, нарочито безыскусное название, с введенным в него условным жанровым определением, и отмеченную Юлием Айхенвальдом разговорную «простоту» стиха (с выражениями вроде: «хошь не хошь», «чайничек кургузый», «И тут я задал, / как говорится, лататы»), вбирающего «повседневный материал»[24], могла лишь виртуозная техника и та ясность и цельность замысла, которых Набоков в своих рецензиях 20-х годов требовал от молодых эмигрантских поэтов.
Поэма состоит из 63 обратных онегинских строф. Набоков последовательно изменил порядок рифм от конца к началу и заменил мужские окончания женскими и наоборот (АбАб+ВВгг+ДееД+жж – АА+бВВб+ГГдд+ЕжЕж)[25]. Выдающийся стиховед М. Л. Гаспаров, уделивший внимание и УП, заметил, что набоковский вариант оказался слабее пушкинского:
Начальные строки, вопреки намерению автора, членятся не на АА+бВВб, но, по стремлению к симметрии, на ААб+ВВб <…>; за ними следует четверостишие ГГдд, своими мужскими стихами как бы завершающее строфу, а после этого последние строки ЕжЕж кажутся избыточным довеском. <…> Набоков пытался избежать такого впечатления средствами синтаксиса – не допуская (по возможности) концов фразы после 6-й и 10-й строк <…>[26].
К этому точному наблюдению следует прибавить еще одно важное отличие набоковского варианта от онегинской строфы: в результате перестановки у Набокова стали преобладать женские рифмы (8 женских против 6 мужских), что усилило мелодичность строфы[27]. В УП, состоящей из 882 строк (в 6,3 раза короче текста «Евгения Онегина», далее – ЕО), 504 женских окончаний, больше, чем в любом другом стихотворном произведении Набокова, – отсюда необходимость разнообразить их. Наряду с простыми женскими рифмами, образуемыми глагольными окончаниями (например, точные: вынул – разинул, понукая – толкая в 21-й строфе), Набоков использует множество нетривиальных: изюма – угрюмо (27), привыкла – мотоцикла (29), башен – бесшабашен (30), други – упругий (34); особенно изобретательны и удачны окончания с именами собственными (многочисленные в первых 11 строфах), которые сами по себе, по замечанию Ю. Тынянова, служат в стихах действенным приемом, «задающим лексическую тональность произведения»[28]: печаля – Даля (5), вкраплен – Чаплин (6), Ньютон – окутан (7), Гольбайна – необычайно (9), простится – Китса (10), Виолета (так это имя пишет Набоков) – но это (14).
Вследствие изменения композиции онегинской строфы изменилась и ее интонация, что выразилось прежде всего в утрате резюмирующего завершения, поскольку рельефно выделяющееся заключительное двустишие онегинской строфы, зачастую дающее определенное разрешение темы, перешло у Набокова в начало, превратившись, напротив, из заключения в зачин темы.
Если в правильной онегинской строфе чередование большего / меньшего напряжения по сложности рифмовки происходит от умеренно сложной перекрестной к более простой парной и наиболее сложной охватной, то у Набокова – от наиболее простой сразу следует довольно резкий переход к наиболее сложной: переломная четвертая строка, затем возвращение начальной интонации в стихах 7–10 (два двустишия) и завершающее перекрестное четверостишие[29]. Схема последних семи стихов совпадает с вариантом четырехстопного ямбического 14-стишия поэмы Е. Боратынского «Бал» (1825–1828), которую Набоков в комментарии к «Евгению Онегину» назвал «безвкусной»[30], но, как будет показано ниже, принимал во внимание, создавая свою поэму.
УП следует рассматривать как первую зрелую поэму Набокова, которой предшествовало несколько крупных, по большей части до сих пор неопубликованных поэтических сочинений 1919–1924 годов:
– «Двое. Современная поэма», январь 1919 года (с эпиграфом из «Двенадцати» А. Блока), в которой около 500 строк и которая имеет общую с УП зоологическую тему (ср.: «Душой и телом крепок, строен / и как-то весело-спокоен – / таков был в эти дни Андрей / Карсавин, – химик и зоолог. / Еще и в школьные года / им путь намеченный – всегда / был и не труден и не долог. / Потом, обласканный судьбой, / он за границею учился, / вернулся, через год женился / на поэтессе молодой, – / и, диссертацию большую / о мимикрии защитив, / в свою усадьбу родовую / с женой уехал»);
– сказочная «Легенда о Луне», июнь 1920 года, также состоящая почти из 500 строк;
– фантастическая поэма «На Севере диком», декабрь 1920 года (около 200 строк); написанная белым стихом и наполненная мрачным колоритом брюсовского стихотворения «Ultima Thule» (1915);
– удачная и свежая поэма об искусстве и спорте «Olympicum» (260 строк), сентябрь 1921 года, которая имеет немало общих мотивов и образов с УП (ср.: «Вот, сокрушительный игрок, / я поднимаю локоть голый, и если гибок и широк / удар лапты золотострунной [—] / чрез сетку, в меловой квадрат, / перелетает блесткой лунной / послушный мяч. Я тоже рад, / средь плясунов голоколенных, / носиться по полю, когда / вверху, внизу, туда, сюда, / в порывах, звучно-переменных, / меж двух прямоугольных луз / маячит кожаный арбуз»);
– короткая автобиографическая поэма «Детство», конец 1921 года;
– написанный белым стихом «Солнечный сон», февраль 1923 года (свыше 800 строк), который во многом предвосхитил «Трагедию господина Морна», а по шахматной теме – «Защиту Лужину», и в котором Набоков, реализуя метафору Ходасевича («Простой душе невыносим / Дар тайнослышанья тяжелый»), обрекает своего героя, рыцаря и шахматиста Ивейна, на одиночество и смерть («И звуки проплывали сквозь него, / да, сквозь него, как будто он без плоти, / без веса был. Ему казалось мнимым / все явное: и тело, и одежда / на нем и та душистая пустыня, / где он стоял, прислушиваясь к жизни / невидимой – но истинной, простой…»)[31];
– ностальгическая «Юность», написанная в ноябре 1923 года (о которой см. Примечание к настоящей работе);
– и наконец, большая «Трагедия господина Морна» (окончена в январе 1924 года в Праге), в которой Набоков в полной мере овладел крупной сюжетной формой, что сам же отметил после ее завершения в следующем неопубликованном «Посвящении»:
Еще под пыткою бессонной воплощенья
смех на устах, роса на лбу.
В гробах гармонии уснут мои виденья,
забуду пламя и дыбу́.
Взгляни на каждый стих (на восковое тело!)
и в этой бледной желтизне
узнай, что плакало, захлебывалось, пело —
и снова улеглось во мне.
Я сам дивлюсь чертам застывшим, незнакомым,
мне только дивной пытки жаль.
Душа моя, как дом, откуда с тихим громом
громадный унесли рояль[32].
В отличие от названных сочинений, УП, «такая русская и такая европейская одновременно», по замечанию Айхенвальда[33], отражает все основные характерные особенности оригинального набоковского стиля (которые затем получат развитие в прозе и в его поздних стихах, русских и английских) во всей их сложной взаимозависимости:
– разнообразие словаря, сочетающего архаизмы, просторечия, специальные термины (например, «затабанить»);
– описания спортивных состязаний (футбола и тенниса);
– внимание к «милым вещам» английской георгианской поэзии;
– ирония по отношению к злободневным социальным вопросам (шутливая инверсия пушкинского дяди «самых честных правил» – тетка Виолеты, которая «социализмом занята», «читала лекции рабочим / культуры чтила идеал / и полагала между прочим, / что Харьков – русский генерал»);
– продуманная система мотивов и иных межтекстовых связей (например, мысль героя об Офелии в 42-й строфе предвосхищается упоминанием Гамлета в строфе 19-й; или мотив пристального зрения: «колодезь светлый микроскопа» в 11-й строфе, «Так! Фокус найден. Вижу ясно» в 13-й строфе, «Вы к ней нагнетесь, например, / и глаз, как[,] скажем, Гулливер, / гуляющий по великанше, / увидит борозды, бугры, / на том, что нравилось вам раньше» в 52-й строфе; или группа христианских мотивов: викарий, «епископ каменный», который «сдает квартиры ласточкам», улица Святого Духа, картина «Мария у Креста» и связанный с этой группой важный мотив ласточки, пушкинской «птички Божией», в строфах 21-й, 32-й, 63-й);
– изощренная набоковская изобразительность;
– самодовлеющая реминисцентность;
– автобиографичность как прием, которым Набоков умело пользуется;
– повышенная емкость стиха (в письме к брату Кириллу Набоков заметил: «…стих должен рождаться цельным, битком набитым; если нужно придумать какое-то прилагательное, чтобы заткнуть дырку, значит весь стих плох»[34]);
– семантическая рефлексия.
Рисунки Набокова в черновиках «Университетской поэмы» (Архив Набокова, Berg Collection), напоминающие привычку Пушкина испещрять свои рукописи рисунками
Набоков, к примеру, обращает внимание читателя на английское значение имени Виолеты («С фиалкой не было в ней сходства <…>», 14), т. е. классически обнажает прием, но вместе с тем на протяжении всей поэмы не перестает использовать семантические возможности избранного имени (например: «предельного расцвета в тот год достигла Виолета», 15-я строфа), не называет, но обыгрывает аналогичное «violet» русское цветочное имя – анютины глазки (отсюда особое внимание к глазам Виолеты[35]), сравнивает английскую деву-весну с русской («придет, усядется – / совсем воспитанная дева, / совсем не русская весна», строфа 31); в конце концов лирический герой «срывает» этот цветок, что соотносится в УП с увяданием чувств и наступлением лета; причем флоральный мотив в имени героини поэмы будет использован Набоковым и позднее, в романе «Подвиг» (1931).
В «Подвиге» Набоков снова обратится к этому кембриджскому сюжету, описывая схожим образом отношения русского юноши Мартына и англичанки Розы. В образе Розы воспроизводятся некоторые черты предшественницы: она тоже живет в Кембридже, тоже быстро сдается, «ее любовь», «бурная, неловкая», напоминает Виолету: «Как в первый раз она метнулась / в моих объятьях, – ужаснулась, / мне в плечи руки уперев»; «румянец Англии» на нежной коже Виолеты становится «смугло-румяным» тоном кожи Розы, а «блестящие глаза» являются столь же важной деталью ее облика (см. гл. XXV романа).
Автобиографический сюжет УП вновь возникает в последнем завершенном романе Набокова «Взгляни на арлекинов!» (1974), в котором русский герой вспоминает одну из своих «кембриджских зазноб, Виолетту Мак-Ди (Violet McD.), искушенную и сердобольную девственницу»[36]. Во время работы над этим романом Набоков, по всей видимости, перечитал свою старую поэму и в октябре 1973 года переложил на английский концовку строфы 53 («И шла навстречу Виолета, / великолепна, весела, / в потоке солнечного света, / и улыбнулась, и прошла»): «And past us Violet was going: / She came magnificent and gay, / With sunlight all around her flowing, / And smiled, and went upon her way»[37].
Из набоковских архивных материалов следует, что в образе Виолеты отразились, по-видимому, два прототипа, Miriam A. и Evelyn R. [?], их имена указаны Набоковым под 1919 годом в неозаглавленном и недатированном «донжуанском списке» (относящемся к 1922 году, что следует из даты фирменного бланка, на обороте которого он составлен, и из последней даты самого списка набоковских увлечений, обрывающегося 1921 годом на имени Светланы <Зиверт>, в которую он влюбился в июне этого года). В архивной лондонской тетради стихов 1919 года «M. A.» посвящено следующее стихотворение, датированное «30–VI–19» (Набоков приехал в Лондон в конце мая 1919 года, поступил в Кембриджский университет в октябре этого года[38]), в котором, как и в УП, внимание сосредоточено на глазах англичанки и звучит та же ностальгическая нота, связанная с русской возлюбленной:
Англичанке
В твоих глазах – прозрачность ночи русской,
хоть говоришь на чуждом языке,
и снится мне весенний месяц узкий
на золотой русалочной реке.
В твоих речах – тревожность русских песен, —
тоскливое, родное волшебство;
и для меня твой шепот тем чудесен,
что о тебе не знаю ничего.
И вот поет сквозь сумрак сердца вешний,
как благовест, вся прелесть прежних встреч.
Ты говоришь все ниже, все поспешней,
и русская мерещится мне речь…[39]
В отношении присущей Набокову симметричности замыслов любопытно отметить, что многие годы спустя после УП свое самое крупное английское поэтическое сочинение, поэму в 999 строк «Бледный огонь», которая станет частью одноименного романа (1962), Набоков напишет архаичным для английской поэтической традиции поуповским героическим стихом (пентаметр с парной рифмовкой), который уже Байрон считал устаревшим[40].
Об интенсивности работы Набокова над УП свидетельствуют исследованные нами недатированные черновики поэмы, с рисунками писателя, хранящиеся в его нью-йоркском архиве. Судя по отброшенным вариантам, Набоков стремился к упрощению и уточнению эпитетов, образов и синтаксиса, к общей краткости и выразительности, добиваясь порой почти афористичной фразировки (ср.: «…пред Богом звуки все равны», 30; «Живой душой не правит мода», 59; «После бала / легко все поезда проспать»). Так, например, строкам «тень лодки проходила мимо, / алела капля огонька» (строфа 42) предшествовали следующие варианты: «тень лодки проходила смутно, / качалась капля огонька»; «в тумане таяли и смутно / дробилась капля огонька»; «тень лодки проходила мимо, / и рдела капля огонька». Варианты к строкам «Ты здесь, и не было разлуки, / ты здесь, и протянула руки, / и в смутной тишине ночной / меня ты полюбила снова, / с тобой средь марева речного / я счастья наконец достиг…» (строфа 43): «Меня ты снова полюбила, / пускай мне муза жизнь разбила / и ничего я не достиг…»; «ты здесь, в бегущей мгле ночной»; «и я любви твоей достиг»; «неправда ль, я тебя достиг». Вариант к строкам «Не шло ей имя Виолета, / (вернее: Вайолет, но это / едва ли мы произнесем)» (строфа 14): «Ей дали имя Виолета, / вернее Вайолет[,] но это / едва ли нам произнести, / моя измученная муза… / И так немалая обуза / тебе тяжелый весь чужеземный мир чужестранный <…> нести». Начальный вариант к строкам «Вот он, каштаново-атласный / переливающийся лоск / прически» (строфа 13) содержал нарочитую звукопись: «И взора ласковость воловью / под слишком правильною бровью, / волнообразный русый лоск / ее волос». Набоков, кроме того, совершенно изменил и переосмыслил строфу 18 («С ней Виолета не бранилась, – / порой могла бы, но ленилась, – / в благополучной тишине / жила, о мире мало зная, / отца все реже вспоминая, / не помня матери <…>»), начальный вариант которой резко отступал от предмета поэмы в область воспоминаний героя о его русском детстве:
<18>
О роковом и темном чуде[,]
о том, что есть на свете люди[,]
которым помнить не дано
улыбку матери, – мне странно
подумать. В памяти туманной
как бы завешено окно;
в былом виднеется туман[,]
игрушек блеск, передник[,] няня,
но как н[и] всматривайся вдаль, —
нет матери; не то что жаль
таких людей, а мнится как-то
что в них души неполнота[,]
неясность, музыка без такта,
и непрозрачные цвета.
На одном из начальных этапов сочинения Набоков составил следующий короткий план поэмы, которому затем, незначительно изменив общую композицию и возраст Виолеты, неукоснительно следует:
Итак[,] вы русский. Описанье Кэмбриджа (выпустить «my dearest»). Вспоминаю Виолету в лаборатории. Глаза, их ласковость воловью. Я с ней встречался редко, но все же узнаю ее ближе. Отец, тетка, мать. Осталось всего пять лет до тридцати. Я был не первый. Джо, Джим, Джек. Футбольное состязанье. Описанье моей комнаты. Старушка. Но зима проходит, весна*. Бал. Я изредка хожу в гости в дом кирпичный. Река. Погоня. Встреча с Джо. Угасанье любви. Конец[41].
Описываемая в УП студенческая жизнь охватывает несколько месяцев – с февраля и, предположительно, по июнь, – в продолжение которых герой увлекается Виолетой, живущей в Кембридже англичанкой, готовится к выпускным экзаменам, остывает к Виолете, благополучно сдает экзамены и уезжает, чтобы в некоем порту в соответствии с романтическим клише наняться матросом на судно[42]. Сюжет ЕО в самом общем виде, как и сама онегинская строфа, также вывернут в УП наизнанку: герой добивается двадцатисемилетней Виолеты, пережившей несколько однообразных адюльтеров и безнадежно мечтающей о замужестве, после чего с легкостью навсегда ее оставляет. В ЕО и УП обнаруживаются общие структурные мотивы: сон, разлука, бал, путешествие, сочинение стихов, картины природы, застолье с вином, мужская дружба и др. Вероятно, именно вследствие определенной «заданности» УП, ее прямой зависимости от ЕО она до сих пор не привлекала должного внимания исследователей: родившийся сто лет спустя после Пушкина поэт сочиняет перевернутой онегинской строфой поэму – сто лет спустя после «Евгения Онегина». На наш взгляд, однако, УП следует рассматривать именно в свете ее заданности, как остроумный набоковский комментарий к роману Пушкина и, отчасти, ко всей долгой онегинской традиции. Ювелирная техника использования мотивов и образов ЕО в УП свидетельствует о недюжинном мастерстве молодого автора и об исключительном значении романа Пушкина для будущего его американского комментатора и переводчика[43]. Вместе с тем, как, например, «Улисс» Джеймса Джойса далеко вышел за рамки изначального гомеровского задания, для которого Джойс сперва избрал форму короткого рассказа, так и поэма Набокова несводима к пушкинскому перепеву.
Приведем наиболее показательные для замысла УП обращения к ЕО, касающиеся главным образом мотивов родины / чужбины, сновидения и музы.
В начале УП Набоков как будто между прочим упоминает и ставит рядом Пушкина и Даля: «нашел я Пушкина и Даля / на заколдованном лотке» (5); затем (в 28-й строфе) эта находка реализуется в отсылке к строфе XXXVIII Гл. 1 ЕО («Подобный английскому сплину, / Короче: русская хандра»[44]) посредством цитирования статьи «хандра» из словаря Даля:
Не без обдуманного изящества, симметрично, в 10-й строфе возникает английская литературная пара – Джордж Байрон и Джон Китс:
А жил я в комнатке старинной,
но в тишине ее пустынной
тенями мало дорожил.
Держа московского медведя,
боксеров жалуя и бредя
красой Италии, – тут жил
студентом Байрон хромоногий.
Я вспоминал его тревоги, —
как Геллеспонт он переплыл,
чтоб похудеть. Но я остыл
к его твореньям… Да простится
неромантичности моей, —
мне розы мраморные Китса
всех бутафорских бурь милей.
Упоминание Байрона показывает, как в УП работает механизм заимствований из ЕО: естественное присутствие Байрона в кембриджском антураже поэмы обусловлено не столько самим этим антуражем и поэтическими занятиями лирического героя поэмы, сколько упоминанием его в строфе XXXVII Гл. 4 ЕО: «Певцу Гюльнары подражая, / Сей Геллеспонт переплывал <…>». Причем Набоков снижает пушкинское романтическое уподобление своего героя Байрону, певцу Гюльнары (героини «Корсара»), бытовым замечанием: «чтоб похудеть». С Китсом же, одно стихотворение которого Набоков перевел как раз в Кембридже[46], дело обстоит сложнее. Приведенная 10-я строфа начинается реминисценцией из строфы XLIII Гл. 4 ЕО. У Пушкина: «Сиди под кровлею пустынной <…>». У Набокова:
А жил я в комнатке старинной,
но в тишине ее пустынной <…>
До 27-й строфы УП времяпрепровождение героя в его комнате не описывается. Но вот в 27-й строфе, сразу после автопарафраза из 10-й строфы («…в старинной комнатке моей»), следует заключительный катрен с реминисценцией из стихотворения Китса «Мечта» («Fancy», 1820) и одновременно из ЕО (совпадения выделены курсивом).
Китс:
<…> Что же делать?
Сиди у очага, когда
Горят сухие ветки ярко,
Дух зимней ночи…
Пушкин (Гл. 4, XLIII):
В глуши что делать в эту пору?
Гулять? <…>
Сиди под кровлею пустынной,
Читай: вот Прадт, вот W. Scott.
Не хочешь? – поверяй расход,
Сердись иль пей, и вечер длинный
Кой-как пройдет, а завтра то ж,
И славно зиму проведешь.
Набоков (строфа 27-я, также в описании зимнего вечера):
<…> пылают угли. Вечер. Скука.
<…>
В камине ласковый, ручной,
Огонь стоит на задних лапах
и от тепла шершавый запах
увядшей мебели слышней
в старинной комнатке моей.
Горячей кочергою ямки
в шипящей выжигать стене,
играть с самим собою в дамки,
читать, писать, – что делать мне?
Обнаружить эту двойную аллюзию, соединяющую Пушкина с Китсом, помог «Комментарий» Набокова к ЕО, в котором писатель к строфе XLIII Гл. 4 для сравнения приводит именно «Fancy» Китса[47].
Важная для Набокова тема сопоставления Англии и России – родины и чужбины – развивается в УП в строфах с 36-й по 43-ю, в которых обыгрываются строфы XLVII–L Гл. 1 ЕО с их темой родины, свободы и с круговым движением от России к Италии, Африке и снова России («Ночное небо над Невою» – «Адриатические волны, / О Брента!» – «И средь полуденных зыбей / Под небом Африки моей / Вздыхать о сумрачной России»). Опорой Набокову служит мотив прогулки на лодке по реке. У Пушкина следует переход от Невы и Петербурга к Бренте и Венеции, Набоков же движется в обратном направлении: речка Кем вначале «вьется / с венецианскою ленцой» (38), затем превращается в русскую реку (43); условной «младой венецианке» Пушкина в «таинственной гондоле» у Набокова вновь зеркально соответствует некая определенная русская возлюбленная, с которой герой когда-то летом также плыл в лодке. В центре этого ряда аллюзий находится 42-я строфа, в которой Набоков перефразировал сразу две строфы ЕО (параллели отмечены курсивом).
а) Гл. 1, строфа ХLVIII:
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая…
б) Гл. 3, строфа XXXII:
<…> Там долина
Сквозь пар яснеет. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина.
УП (42):
<…> Вдалеке невнятно
пропел на пастбище рожок.
<…>
В тумане звук неизъяснимый
все ближе, и, плеснув слегка,
тень лодки проходила мимо <…>[48]
Как можно видеть, некоторые пушкинские детали в УП заимствуются практически без изменений, однако они включаются Набоковым в контекст с иным, порой противоположным значением, что в приведенном фрагменте оправдывается личными биографическими мотивами: изгнанничеством и постулируемой, а не желаемой, свободой героя УП – alter ego автора-эмигранта. Отметим еще несколько переиначенных заимствований из пушкинского романа, которые, очевидно, были рассчитаны на мгновенное узнавание:
а) Гл. 1, строфа XV:
Бывало, он еще в постеле <…>
УП (8):
Я по утрам, вскочив с постели <…>
б) Гл. 1, строфа XXX:
Но если б не страдали нравы,
Я балы б до сих пор любил.
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд <…>
УП (строфа 59-я, отступление в описании бала, как и в ЕО):
Мне мил фокстрот, простой и нежный…
Иной мыслитель неизбежно
Симптомы века в нем найдет, —
Разврат под музыку бедлама <…>
в) Гл. 1, строфа XXXIV:
Опять ее прикосновенье
Зажгло в увядшем сердце кровь <…>
УП (58):
Прикосновеньем не волнуем,
Я к ней прильнул, и вот танцуем <…>
г) Гл. 4, строфа XLVI:
Аи любовнице подобен
Блестящей, ветреной, живой,
И своенравной, и пустой…
Но ты, Бордо, подобен другу <…>
УП (51, обед с «приятелем» Джонсоном):
Когда же, мигом разыграв
Бутылку дружеского Грав,
За обольстительное Асти
Мы деловито принялись, —
О пустоте сердечной страсти
Пустые толки начались
(курсив Набокова, подражающий пушкинскому тексту).
В 48-й строфе УП, где аллюзию на сон Татьяны выдает интонация с анафорой, герой спасается бегством от университетского штрафа и выговора.
ЕО, Гл. 5, строфа XIV:
Татьяна в лес; медведь за нею;
Снег рыхлый по колено ей;
То длинный сук ее за шею
Зацепит вдруг, то из ушей
Златые серьги вырвет силой;
То в хрупком снеге с ножки милой <…>
УП (48):
Луна… Погоня… Сон безумный…
Бегу, шарахаюсь бесшумно:
То на меня из тупика
Цилиндра призрак выбегает,
То тьма плащом меня пугает,
То словно тянется рука <…>
Мотив сновидения из ЕО вновь развивается у Набокова с обратным пушкинскому значением – герою снится Виолета. Это одна из ключевых в композиции поэмы строф. В «Комментарии» к строфе XI Гл. 5 ЕО («И снится чудный сон Татьяне») Набоков обращает внимание на ее примечательность, состоящую в «перекличке между сном Татьяны и ее переживаниями в последних строфах Гл. 3, ритмической и словесной». «Сон, – продолжает Набоков, – есть травестия и прошлого и будущего»[49]. Для примера он указывает на дословное повторение в строфе XI стиха из Гл. 3 («Остановилася она»). Он бы мог указать в своем комментарии, что еще в 1926 году отразил этот прием в УП: герою снится Виолета, причем она говорит по-русски, затем приносит щепки для камина; Виолета одновременно приобретает черты безымянной русской возлюбленной героя из его прошлого и кембриджской старушки, убирающей его комнату и растапливающей камин, наследницы образа Татьяниной няни. Сверх того, в этой строфе, как и у Пушкина, присутствует почти дословный повтор стиха из строфы 24-й («придет и, щепки принеся»), а во сне героя соединяются и травестируются прошлое и будущее: в эту старушку во дни ее молодости был влюблен студент, как герой УП влюблен в Виолету (ср. в 25-й строфе: «…во дни Виктории, бывало, / она румянцем волновала / в жилетах клетчатых сердца <…> ее встречал такой, как я»), Виолета же в будущем, по тонкому намеку Набокова, превратится в такую же прислуживающую какому-нибудь студенту старушку. Намек состоит в том, что с образом старушки связано важное для композиции УП повторное проигрывание темы отъезда любовника – в 16-й строфе Виолета провожает своего любовника, то ли Джона, то ли Джонсона, а в 62-й строфе старушка провожает героя-рассказчика, русского приятеля Джонсона.
Поэма завершается обращением к музе, в котором реализуются два предшествующих ее упоминания. В 11-й строфе УП муза – «тоскующая Каллиопа», в 28-й строфе – «вялая госпожа» скучающего в своей студенческой комнате («берлоге» в строфе 62-й) героя. Если в начале УП обыгрывается эмоционально ярко окрашенное упоминание музы в романе Пушкина, где в Гл. 8 находим: «Моя студенческая келья / Вдруг озарилась: муза в ней / Открыла пир младых затей», то в последней и лучшей строфе набоковской поэмы классические обращения поэта к музе исключительно тонко обращены к заключительным строфам Гл. 6 и Гл. 7 ЕО (совпадения выделены подчеркиванием):
Гл. 6, строфа XLVI:
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай[50],
Не дай остыть душе поэта <…>
Гл. 7, строфа LV (курсив Пушкина):
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И, верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
Довольно. С плеч долой обуза!
УП, 63:
И это все. Довольно, звуки,
довольно, муза. До разлуки
прошу я только вот о чем:
летя как ласточка, то ниже,
то в вышине, найди, найди же
простое слово в мире сем,
всегда понять тебя готовом;
и да не будет этим словом
ни моль бичуема, ни ржа;
мгновеньем всяким дорожа,
благослови его движенье,
ему застыть не повели;
почувствуй нежное вращенье
чуть накренившейся земли.
Говоря, что «простым словом» не должно бичевать «ни моль, ни ржу», т. е. презираемые поэтами обиходные частности жизни, и перефразируя евангельское: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют» (Мф. 6:19–20)[51], Набоков утверждает ценность мимолетных впечатлений, «мгновений всяких», сохраненных им в памяти и воссозданных в строках УП, а кроме того, напоминает о том, что и роман Пушкина журнальные критики бранили за «простой слог» и изображение «низких» предметов.
Исходя из приведенных сопоставлений, можно заключить, что УП построена на основе многочисленных реминисценций и заимствований из ЕО, мастерски вплетенных в ее ткань. Но этим обращение Набокова в УП к роману Пушкина не исчерпывается. Помимо ЕО, он принимал во внимание и другие произведения, связанные с ним онегинской или близкой ей строфой и тематическим рядом, как, например, «Бал» Боратынского. Приведем два наиболее показательных примера (параллели отмечены курсивом).
«Бал»:
Умолк. Бессмысленно глядела
Она на друга своего,
Как будто повести его
Еще вполне не разумела <…>
Вдруг содрогнулася лицом <…>
«Что, что с тобою, друг бесценный?» —
Вскричал Арсений. Слух его
Внял только вздох полустесненный.
«Друг милый, что ты?» – «Ничего»[52].
УП, 41:
Перевернула лист журнала
и взгляд как будто задержала,
но взгляд был темен и тягуч:
она не видела страницы…
вдруг из-под дрогнувшей ресницы
блестящий вылупился луч,
и по щеке румяно-смуглой,
играя, покатился круглый
алмаз. «О чем же вы, о чем,
скажите мне?» Она плечом
пожала <…>
и тихим смехом вздулось горло:
«сама не знаю, милый мой…»
Набоков использует то же неблагозвучное сочетание «вдруг—дрог» в подобной же сцене романтического томления героини, замеченного героем, указывая таким образом на пятикратное повторение этого сочетания в строфе Боратынского. Так же иронично окрашено у Набокова повторение «О чем же вы, о чем», соответствующее страстному вопрошанию Арсения, и здесь же возникает поэтическое клише XIX века – сравнение слезы возлюбленной с алмазом. Выбор неудачной, типично романтической строфы из «Бала» в качестве объекта для пародии иллюстрирует программное утверждение в строфе 10-й УП: «Да простится / неромантичности моей, – / мне розы мраморные Китса / всех бутафорских бурь милей». Общий источник для «Бала» и УП находим в ЕО (Гл. 6, строфа XIX), ср.:
Но поздно; время ехать. Сжалось
В нем сердце, полное тоской;
Прощаясь с девой молодой,
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» – Так. – И на крыльцо.
(Заметим, что у Набокова, как и у Боратынского, в отличие от Пушкина, вопрос задает герой.)
Другой набоковский источник из произведений онегинской традиции – комическая поэма Лермонтова «Тамбовская казначейша» (1838). Поэма начинается с описания Тамбова и сетования на его скуку. Виолета в 1-й строфе УП замечает: «Наш город скучен», затем в 4-й строфе герой начинает описание Кембриджа. У Лермонтова после стиха «Короче, славный городок» следует замечание «Но скука, скука, Боже правый» (2), а в УП герой задается вопросом: «Неужто скучен в самом деле / студентов древний городок?» (3). В описании Тамбова упоминаются «три улицы прямые», два трактира – «Московский» и «Берлин» (1), а в набоковском описании Кембриджа – «улочки кривые» и трактир «Синего Быка» (7). Тамбов выбран Лермонтовым как обычный русский город, и такой же городок вспоминается герою УП: «когда, изгнанника печаля, / шел снег, как в русском городке» (5), что также можно принять за аллюзию на «Тамбовскую казначейшу», действие которой происходит зимой.
Еще заметнее в УП отсылки к поэме Вячеслава Иванова «Младенчество» (1918), состоящей из 48 онегинских или, как пишет во вступлении поэт, «заветных» строф. В ней находим примечательные совпадения (выделены курсивом) в описании чувств героя:
«Младенчество», строфа XXI:
<…> У окон, в замкнутом покое,
В пространство темно-голубое
Уйдя душой, как в некий сон,
Далече осязали – звон…
Они прислушивались. Тщетно
Ловил я звучную волну:
Всколеблет что-то тишину —
И вновь умолкнет безответно…
Но с той поры я чтить привык
Святой безмолвия язык[53].
УП, 29–30:
Открыв окно, курантам внемлю:
перекрестили на ночь землю
святые ноты четвертей,
и бьют часы на башне дальней…
<…> Вслушиваюсь я, —
Умолкло все. Душа моя
уже к безмолвию привыкла, —
как вдруг со смехом громовым
взмывает ветер мотоцикла…
<…> С тех пор душой живу я шире:
в те годы понял я, что в мире
пред Богом звуки все равны.
Заимствование в этом случае носит неявный полемичный характер: «святому безмолвию», вслушивание в которое предполагает у Иванова религиозно-мистическую подоплеку, Набоков противопоставляет жадную «всеядность», «смесь хмельную старины» и «настоящего живого» (30). Оттого-то и звучит у него «смех громовой мотоцикла», отражающий ведущий принцип самой поэтики УП, в которой на столетнюю онегинскую форму накладывается образный и звуковой строй поэзии двадцатого века: как «простым словом» не должно бичевать ни моль, ни ржу, так и «пред Богом звуки все равны». Вместе с тем Набоков, как кажется, мог упрекнуть Вяч. Иванова в том, что тот не всегда ищет «простое слово в мире сем», как, например, в следующем месте, где и он и Набоков по-своему обыгрывают пушкинские строки:
ЕО, Гл. 7, строфа XXIV:
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес…
«Младенчество», строфа XLVII:
УП, 48:
<…> куда не вхож ни ангел плавный,
ни изворотливейший бес.
Из приведенных примеров следует, что, создавая УП, Набоков стремился в первую очередь не к условной «современности» и «новизне» самого стиха, а к безусловному согласию всех элементов своей эпической конструкции. Замечая при этом и подчеркивая ту значительную эволюцию, которую русская литература претерпела за сто лет, он исходил из оригинального целостного взгляда на роман Пушкина и на всю онегинскую традицию, с которой был хорошо знаком[55]. В этом сочинении середины 1920-х годов со всей определенностью выразились его взгляды на назначение эмигрантского поэта, призванного строго чтить и беречь русское слово ввиду происходящего с русской словесностью в метрополии, но не просто беречь, как антикварную ценность или картину старого мастера, а видеть в этой ценности источник собственного творчества, естественным продолжением которого оно является. С этих позиций в те годы Набоков оценивал современную русскую поэзию в своих рецензиях и обзорах; так, в 1929 году он писал об «Избранных стихах» Бунина следующее:
Стихи Бунина – лучшее, что было создано русской музой за несколько десятилетий. Когда-то, в громкие петербургские годы, их заглушало блестящее бряцание модных лир; но бесследно прошла эта поэтическая шумиха – развенчаны или забыты «слов кощунственные творцы», нам холодно от мертвых глыб брюсовских стихов, нестройным кажется нам тот бальмонтовский стих, что обманывал новой певучестью; и только дрожь одной лиры, особая дрожь, присущая бессмертной поэзии, волнует, как и прежде, волнует сильнее, чем прежде, – и странным кажется, что в те петербургские годы не всем был внятен, не всякую изумлял душу голос поэта, равного которому не было со времен Тютчева. Полагаю, впрочем, что и ныне среди так называемой «читающей публики» – особенно в той части ее, которая склонна видеть новое достижение в безграмотном бормотанье советского пиита, – стихи Бунина не в чести <…>[56].
В середине 1950-х годов Глеб Струве, английский приятель Набокова и дельный его товарищ по берлинскому «Братству круглого стола», охарактеризовал эволюцию Набокова-поэта следующим образом: «Молодой Набоков не отдал обычной дани никаким модным увлечениям. <…> Набоков – интересный случай поэта, развивавшегося прочь от крайнего поэтического консерватизма в молодости, но, благодаря своей ранней выучке и дисциплине, твердо державшего своего Пегаса в узде и в самых смелых и неожиданных заскоках его»[57]. Другой товарищ Набокова по «Братству круглого стола», Владимир Кадашев, в своей рецензии на его сборник «Гроздь» очень точно описал его кредо поэта: «В дни, когда весь мир, все искусство охвачено бешеным устремлением к Дисгармонии, к Хаосу, – он хочет <…> воздвигнуть строгий и чистый, воздушный замок поэзии внутренне классической» (курсив Кадашева)[58]. Набоков, разумеется, не был одинок в своем эмигрантском «неоклассицизме». Разделяя взгляды нового берлинского «Цеха поэтов» (1922), а позднее парижского «Перекрестка», восхищаясь Гумилевым, Буниным и Ходасевичем, сочиняя в 1923 году пятистопным ямбом трагедию в пяти актах, сближаясь с таким приверженцем «однотонных схем»[59], как Владимир Корвин-Пиотровский[60], он вынашивал свою философию отвержения историцизма и социального детерминизма, отметал модные концепции переоценки ценностей, эстетизма, «заката Европы» и нового варварства и создавал образ поэта-наследника, поэта-знатока и хранителя королевских сокровищ русской, а после перехода на английский язык – и всей европейской культуры.
В том же 1927 году, когда поэма Набокова была напечатана в Париже, Юрий Тынянов в статье «О литературной эволюции» заметил:
Если мы условимся в том, что эволюция есть изменение соотношения членов системы, т. е. изменение функций и формальных элементов, эволюция оказывается «сменой» систем. Смены эти носят от эпохи к эпохе то более медленный, то скачковый характер и не предполагают внезапного и полного обновления и замены формальных элементов, но они предполагают новую функцию этих формальных элементов. <…> каждое литературное направление в известный период ищет своих опорных пунктов в предшествующих системах – то, что можно назвать «традиционностью» (курсив Тынянова)[61].
Опыт Набокова с онегинской строфой и пушкинским ямбом мог бы послужить отличным материалом для этого положения Тынянова. Утверждая в УП вневременную плодотворность пушкинской поэзии и не боясь насмешек над своей «старомодной» приверженностью ей, Набоков, в сущности, повторяет то, о чем не раз писал в своих критических статьях и рецензиях 20-х годов, а позднее напишет в «Даре» (который завершит правильной онегинской строфой), – что лучших университетов для молодого русского поэта, чем великие образцы русской литературы, ему не найти, но что, вместе с тем, в литературе остается лишь то подлинное, индивидуальное достижение, которое, продолжая высокую традицию, привносит в нее нечто совершенно новое.
Примечание 2018 года
В тематическом и программном отношениях к УП близка небольшая поэма «Юность», первоначально названная «Школа». Написанная в Берлине в начале ноября 1923 года (уже сочинен рассказ «Удар крыла» и начата работа над «Трагедией господина Морна») и не опубликованная при жизни Набокова, она являет собой один из ранних опытов его поэтической авторефлексии, с еще по-юношески пылким изложением profession de foi, и открыто, декларативно, в отличие от УП, показывает связь его консервативной или неоклассической позиции с отвержением революционных событий и радикальных культурных преобразований в России.
Лирический герой «Юности» предстает в образе рыцаря древнего рода, противостоящего новомодной литературной нечисти, вырастающей в Советской России, откуда «ползут <…> гугнивые и склизкие» стихи, «полные неблагостного гула» (которому противополагается «благостный» «подвиг наш»), а сами советские поэты названы конокрадами (прозрачная аллюзия на стихотворение Есенина «Хулиган», 1920: «Только сам я разбойник и хам, / И по крови степной конокрад»). Написанные в пушкинском ключе и обращенные к Пушкину и его «живому завету», эти стихи (которые советский критик назвал бы «типично белогвардейскими» и «буржуйскими») не обладают сколько-нибудь значительными поэтическими достоинствами, но примечательны ранним изложением автобиографического материала, позднее использованного в первом романе Набокова «Машенька», а также вниманием молодого автора к композиции и структуре поэмы: в ней семнадцать строф по двенадцать строк в каждой; однако в первой и последней строфах – по одиннадцать строк, причем в первой строфе последняя строка остается холостой и рифма «подхватывается» в следующей строфе, а в последней строфе из-за смены системы рифмовки последняя строка рифмуется с предыдущей, замыкая тем самым и строфу, и всю сквозную рифмовку поэмы. Приведем две первые и четыре заключительные строфы по архивному тексту:
I
И в сотый раз я повторю: глухая,
унылая, квадратная тюрьма!..
Так, муза, так. Ты чувствуешь сама:
у нас, у нас, в гербах благоухая,
живут степей несмятые цветы,
у нас – сквозит в железных наших латах
ночь белая… Так чувствуешь и ты,
когда из края лет моих крылатых
порой ползут стихи – издалека, —
гугнивые и склизкие слегка,
и полные неблагостного гула.
II
В них скука есть мещанского разгула.
Бьет по глазам Пегаса – конокрад…
Ужель моей отчизне надоели
плащи и розы, Делия, дуэли,
и в Болдине священный листопад?
Одной октавой, низкой и певучей,
одним живым заветом дорожу.
Мне чужд соблазн развенчанных созвучий,
я к модному не склонен мятежу.
Такую вот люблю цезуру – зная,
что стих тогда – как плитка костяная:
налево два, направо три очка.
<…>
XIV
Мне снится снег на сизой шубке, снится
мне влажный смех слегка раскосых глаз.
Сон, милый сон, морозный и веселый;
я иногда не доезжал до школы,
на полпути слезал – и в должный час
проходишь ты по Серг[и]евской белой
и я к тебе чрез улицу иду.
Ах, – наше счастье зябкое сидело
на всех скамьях в Таврическом саду.
Сиял мороз. Когда ты целовала[,]
мне жаркой мутью душу обдавало,
а после – снег сиял еще синей.
XV
Немало грез я перегрезил с ней,
с той девочкой в пушистой шубке сизой.
Я школу пропускал и впопыхах
любили мы – и в утренних стихах
я звал ее Лаурой, Монна-Лизой [sic].
И где она? В серебряном саду
все так же спит на черных ветках иней,
гремят коньки по матовому льду
и небо веет тишиною синей.
Но где ж она? Не знаю, не пойму.
В последний раз, – в бушующем Крыму —
из хутора Полтавского – открытка…
XVI
Еще душа не дочитала свитка
эпических скитаний по чужим
краям, еще поют на перепутьях
колдуньи в соблазнительных лохмотьях[62] —
но конь летит и всадник недвижим.
Еще встает из грота потайного
обезумелый великан тоски,
чтоб сгорбиться и притаиться снова —
по мановенью рыцарской руки.
Да, рыцари… Вот щит, простой, железный,
вот подвиг наш – быть может, бесполезный,
но благостный, но светлый, но живой…
XVII
Вернемся мы! Над вольною Невой
какие будут царственные встречи!
Какой спокойный и счастливый смех, —
и отличаться будем мы от всех
благоуханной медленностью речи, —
да, – некою старинной простотой
речей, одежд и сдержанных движений,
затем, что шли мы строгою стопой,
в самих себе не зная поражений,
затем, что мы – в пыли чужих дорог,
все помнили, – затем, что с нами Бог…[63]
21
Сирин В. Университетская поэма // Современные записки (Париж). 1927. Кн. 33. С. 223–254. С публичным чтением поэмы Набоков впервые выступил 22 декабря 1926 г. в Праге (см.: Набоков В. Письма к Вере. М.: Колибри, 2017. С. 172).
22
Иванов Г. <Рец.> «Современные записки», книга XXXIII // Последние новости. 1927. 15 декабря. С. 3.
23
Дикс [М. Л. Кантор] <Рец.> «Современные записки», книга XXXIII // Звено. 1928. № 1. С. 61 (авторство установлено: Шруба М. Словарь псевдонимов русского зарубежья. 1917–1945 / Под ред. О. Коростелева. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 184). Ср. позднее замечание Вейдле (вне связи с УП): «<…> Пушкин с мудрой осторожностью подошел к терцинам, октавам, сонету и создал собственную строфу, слишком сросшуюся с „Онегиным“, чтобы стать воспроизводимой и нейтральной» (Вейдле В. В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества / Сост. И. А. Доронченков. СПб.: Аксиома, 1996. С. 59).
24
Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Руль. 1928. 4 января. С. 2–3. Самим зачином поэмы задается бытовой разговорный тон: поэма начинается «без предисловий, сей же час» вопросом героини («Итак, вы русский?»).
25
См. детальный разбор Набоковым онегинской строфы: Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» / Ред. В. П. Старк. СПб.: Искусство-СПБ, Набоковский фонд, 1998. С. 37–41.
26
Гаспаров М. Л. Русский стих начала XX века в комментариях. Изд. второе (доп.). М., 2001. С. 178–179.
27
В «Заметках о просодии» (1963) Набоков, характеризуя модуляции русского четырехстопного ямба, заметил, что «Женские рифмы, столь же частые, как и мужские, придают стихам музыкальность <…>» (Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Приложение 2 / Пер. Д. Р. Сухих. С. 779).
28
Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л.: «Academia», 1924. С. 96.
29
Любопытно, что законченность строфы в УП менее определенная, чем в онегинской, она легче поддается межстрофическому переносу, и при этом Набоков ни разу не использовал этот эффектный прием, встречающийся в ЕО.
30
Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 550. В «Бале» следующая схема рифмовки: АббАвГвГддЕжЕж.
31
The New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box / Album 1923–1924. Указанные сочинения, преимущественно рукописи, содержащиеся в различных альбомах и тетрадях самого Набокова и его матери, Е. И. Набоковой, мы намерены подготовить к изданию отдельной книгой.
32
The New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box / Album 10 («Посвящение к „Трагедии господина Морна“»). Под автографом (рукой Елены Ивановны Набоковой) указана дата: «Прага. 26–I–24».
33
Указ. соч.
34
Письмо не датировано, около 1930 г. (Набоков В. Переписка с сестрой. Ann Arbor: Ardis, 1985. С. 120).
35
Ср. стихотворение Набокова «Viola tricolor» («Анютины-глазки, веселые-глазки…»), 1921, включенное в сб. «Гроздь» (1922).
36
Набоков В. Взгляни на арлекинов! / Пер., примеч. А. Бабикова. 4-е изд., уточн. и доп. СПб.: Азбука. 2016. С. 33.
37
На отдельной линованной каталожной карточке, с пометкой: «From the University Poem» (Houghton Library (Cambridge, Mass.) / Vladimir Nabokov papers). В том же архиве отложился черновой нерифмованный перевод на английский язык первых пятнадцати строф поэмы и строф 30–33, сделанный Верой Набоковой в 80-х годах. Полностью поэма была переведена на английский язык Дмитрием Набоковым в 2011 г. (The University Poem // Collected Poems by Vladimir Nabokov / Ed. by Tomas Karshan. New York et al.: Penguin Classics, 2012).
38
Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. Биография / Пер. с англ. Г. Лапиной. СПб.: Симпозиум, 2010. С. 199.
39
New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box / London Album (1919).
40
Набоков сближал Пушкина с Александром Поупом (1688–1744), что объяснял общим влиянием французской поэзии. Так, обсуждая в «Заметках переводчика» (1957) выбор лексики для перевода ЕО на английский, он сделал следующее замечание: «Одна из задач переводчика – это выбор поэтического словаря. Ни словарь времен Мильтона, ни словарь времен Браунинга Пушкину не подходит. Суживая пределы, убеждаешься в том, что „Онегин“, в идеальном английском воплощении, ближе к общему духу XVIII века (к духу Попа, например, – и его эпигона Байрона), чем, скажем, к лексикону Кольриджа или Китса» (Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 798).
41
New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box / Miscellaneous first drafts.
42
Ближайшим к УП сочинением Набокова является очерк «Кембридж» (1921), в котором находим некоторые детали, включенные затем в поэму: «мудрец», отпускающий с кафедры «красное словцо» (8-я строфа поэмы), «венецианская томность» реки Кем (38), старушки в «смешных» черных шляпах (ср. в 24-й строфе: «смешная траурная шляпка»), разговор с «товарищем» о «стачках» (51), упоминание хромоногого студента Байрона и его московского медведя (10) (Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. / Сост. Н. И. Артеменко-Толстой. СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 1. С. 725–728).
43
Некоторый интерес к УП возник в начале 2000-х гг.: английский филолог Джеральд Смит в работе «Русский стих Набокова», рассматривая ритмику набоковского четырехстопного ямба, пришел к выводу, что в УП Набоков «доводит до предела (послепушкинского!) альтернирующий ритм XIX века» (Смит Дж. Взгляд извне. Статьи о русской поэзии и поэтике / Пер. с англ. М. Л. Гаспарова, Т. В. Скулачевой. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 107). В статье американского исследователя Б. П. Шерр подробно рассмотрены формальные особенности созданной Набоковым строфы и вариации ямбического метра, с рядом ценных выкладок. В частности, любопытны замечания о синтаксисе УП, о меньшей ударности набоковского ямба в сравнении с ЕО и сближении его в этом отношении с ямбом Тютчева. См.: Шерр Б. П. «Университетская поэма» В. Набокова: внутренняя структура опрокинутой онегинской строфы // Славянский стих. Стих, язык, смысл. VIII / Под ред. А. В. Прохорова, Т. В. Скулачевой. М.: Языки славянских культур, 2009. С. 71–83. Взгляд на УП как на «великолепный комментарий к Пушкину» предложил Брайан Бойд в 1990 г. в первом томе набоковской биографии, см.: Бойд Б. Владимир Набоков. Русские годы. С. 316.
44
Цитаты из ЕО приводятся (без указания номеров страниц) по изданию: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.: Издательство академии наук СССР. Т. 5. 1957.
45
Цитаты из УП приводятся (в современном правописании) по указанной нами первой журнальной публикации, поскольку при жизни Набокова поэма не переиздавалась, а во всех последующих известных нам изданиях ее текст печатается с грубыми ошибками. Наиболее огорчительный тому пример являет собой издание, претендующее на полноту и научность: Набоков В. В. Стихотворения. / Вступ. ст., сост., подг. текста и примеч. М. Э. Маликовой. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2002. Среди множества искаженных в этом издании стихотворений Набокова (порой с потерей целых строк), в строфе 14-й УП находим: «Не шло ей имя Виолета / (вернее: Вийолет, но это / едва ли мы произнесем)» (с. 316. Курсив мой. – А. Б.), тогда как у Набокова и в английском языке: Вайолет (с. 229 указанной журнальной публикации). Еще раньше, в одной лишь 11-й строфе, находим: «в капельках» – должно быть: «в капельке», «мир явился» – должно быть: «мир являлся», «в колодец» – должно быть: «в колодезь» (устар. форма, отвечающая другим устаревшим словам в УП: «други», «нудит», «молвил», «пиит», «ржа»), «Люблю я» – должно быть: «Любил я».
46
«La Belle Dame Sans Merci (Из John Keats)» из сб. «Горний путь» (1923). Этот перевод Е. Витковский назвал «весьма вольным переложением» (Китс Дж. Стихотворения и поэмы. М.: Рипол Классик, 1998. С. 8).
47
Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 385. См. перевод «Fancy» В. Микушевича: Китс Дж. Стихотворения и поэмы. C. 192.
48
В комментарии к Гл. 1 строфы XLVIII ЕО по поводу сочетания лодка – река – певец Набоков заметил, что оно «составляет одно из самых плоских общих мест романтизма» (Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 195). В УП (в той же 42-й строфе) эта «романтическая формула» уже пародируется: река – лодка – граммофон.
49
Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 404.
50
Зджесь и далее фрагменты текста, выделенные полужирным, в оригинальном издании подчеркнуты. – Букмейт.
51
Тот же библейский отзвук возникает у Набокова в конце стихотворения Гумберта Гумберта в русском переводе «Лолиты» (Ч. II, гл. 25): «Икар мой хромает, Долорес Гейз, / Путь последний тяжел. Уже поздно. / Скоро свалят меня в придорожный бурьян, / А все прочее ржа и рой звездный» (Набоков В. Лолита. New York: Phaedra, 1967. С. 237).
52
Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений (Б-ка поэта. Большая серия, 3-е изд.) Л., 1989. С. 259. Мы используем ныне принятое написание фамилии поэта.
53
Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. / Под ред. Д. В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель: Foyer oriental chrétien. 1971. Т. 1. С. 241.
54
Иванов В. И. Собр. соч. Т. 1. С. 254.
55
Маловероятно, но не исключено, что ко времени сочинения УП Набоков был знаком с еще одним новым образчиком онегинской традиции, «романом в строфах» «Рояль Леандра» Игоря Северянина (см.: Кац Б. «Уж если настраивать лиру на пушкинский лад…» О возможном источнике «Университетской поэмы» Владимира Набокова-Сирина // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 279–295; его же: Прыжок Набокова (Шишкова) с трамплина романса // Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Романа Давидовича Тименчика. М.: Водолей, 2005. С. 125). Однако следует учесть следующее обстоятельство. Эти «непритязательные главы» правильными онегинскими строфами, но часто неуклюжими стихами Игорь Северянин написал в Эстонии в 1925 г.; печатались они (под названием «Lugne») в январе—феврале 1926 г. в девяти выпусках малодоступной Набокову варшавской газеты «За свободу!» (в письме к жене от 5 июля 1926 г. он писал: «А в варшавской газете „За свободу“ необычайно похвальный отзыв о моем выступленье на Вечере культуры (тоже постараюсь достать)»; 20 мая 1930 г. он просит жену «попробовать достать недавний № „За свободу“» – Набоков В. Письма к Вере. С. 145; 179). О том, что газетная публикация «романа» Северянина не вызвала большого интереса в эмиграции, говорит тот факт, что отдельным изданием он вышел только в 1935 г. в Бухаресте. Более вероятно, что Набоков читал написанную правильной онегинской строфой «сатирическую поэму» своего берлинского знакомого Лери (Клопотовского) «Онегин наших дней», вышедшую книжкой в издательстве Ольги Дьяковой (Берлин, 1922).
56
Набоков В. <Рец.> Ив. Бунин. Избранные стихи. Изд. «Совр. записки». Париж. 1929 // Набоков В. Собр. соч. русского периода. Т. 2. С. 672–673.
57
Струве Г. П. Русская литература в изгнании. Изд. 3-е, испр. и доп. Париж; М.: YMCA-Press / Русский путь, 1996. С. 120; 122.
58
Вл.<адимир> Кад.<ашев> <Рец.> В. Сирин. Гроздь. Стихи. Из-во «Гамаюн». Берл. 1923. ст. 64 // Сегодня (Рига). № 44. 25 февраля 1923.
59
Бахрах А. По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж, 1980. С. 163.
60
Е. Каннак, вспоминая Пиотровского, приводит характерный эпизод: «Приятели его порой дразнили: „Владимир Львович, почему такая верность четырехстопному ямбу? Ведь он и Пушкину, как вам известно, надоел“. Он отвечал не без высокомерия: „А я верен молодому Пушкину“» (Каннак Е. Верность. Воспоминания. Рассказы. Очерки. Paris, 1992. С. 246).
61
Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л.: Прибой, 1929. С. 46–47.
62
Возможно, описка, должно быть: лоскутьях.
63
The New York Public Library / Berg Collection / Vladimir Nabokov papers / Manuscript box. In: Album 14 (p. 26–38) / Iunost’. Holograph poem, unsigned. Поэма была впервые опубликована отдельным изданием: Набоков В. Юность / Публ., вступ. ст. М. Минской. СПб., 2016. К сожалению, публикатором, малознакомым, по-видимому, с дореформенным правописанием и собственно версификацией, текст поэмы был сильно искажен. Буква «ять» в словах «белая» дважды прочитана как «ы» (отсюда у публикатора не попадающие в размер «ночь былая» и «Сергиевской былой»), а в слове «ширме» прочитана как «ах» (отсюда – «на деревянных ширмах», тогда как у Набокова – «на деревянной ширме»); буква «ер» прочитывается публикатором иногда как «ерь» (отсюда «пламенеть» вместо «пламенеет», что рифмуется у Набокова с «умеет»); вследствие слабого знания набоковской лексики и непонимания содержания текста публикатор не смогла прочитать слово «гугнивые» и произвольно заменила его словом «пугливые»; слово «цезуру» поменяла на «цензуру», «щит» на «путь», «вот» на «ведь» (снова «ер» на конце превращается в «ерь»), и т. д. и т. п.