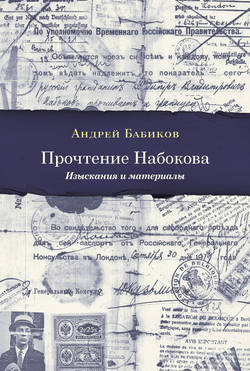Читать книгу Прочтение Набокова. Изыскания и материалы - Андрей Бабиков - Страница 7
Театр Набокова и Rex Cinema
Подробности картины Lolita cinemathoides
ОглавлениеПоэзия – это чувство Интеллектуального Блаженства в этом мире и Упование на Интеллектуальное Блаженство более высокого порядка в мире ином.
Э. По
1
В 1965 году в «Постскриптуме к русскому изданию» «Лолиты» Набоков назвал этот роман «своей лучшей английской книгой»[253]. «Лолита» потребовала от него пяти лет упорного труда (1948–1953) и еще около десяти лет предварительного обдумывания. У нее самая продолжительная из всех книг Набокова предыстория и долгое послесловие. Вскоре после американского издания «Лолиты» (1958) Набоков получил от Стэнли Кубрика предложение приехать в Голливуд и написать сценарий для задуманной экранизации романа. Первая обширная версия набоковского сценария не могла быть запущена в производство из-за двукратного превышения отведенного картине метража, и летом 1960 года ему пришлось ее сильно сократить. В 1973 году он его вновь переписал, создав третью по счету его редакцию, которую и выпустил отдельной книгой: «не в виде раздраженного опровержения роскошной картины, но только как живую разновидность старого романа»[254]. Он касается темы «Лолиты» и в следующих своих романах – «Аде», «Арлекинах» и в оставшейся незавершенной «Лауре».
История очарованного отроковицами мономана, разыгрывающего многоходовую комбинацию с браком по особому расчету, занимала его воображение по крайности с конца тридцатых годов, когда в Париже он написал рассказ «Волшебник» (1939), заключающий в свернутом виде будущий знаменитый роман. Эскизные наброски к «Лолите» можно отыскать во многих его сочинениях той поры. В первом его английском романе, «Истинная жизнь Севастьяна Найта», оконченном в январе 1939 года, упоминается отчего-то полюбившаяся Севастьяну «совершенно ничтожная картина» «Зачарованный сад», действие которой разворачивается где-то на Ривьере. В набросках продолжения «Дара», создававшихся, по-видимому, уже после переезда Набокова в Америку, в сценах парижских свиданий Федора Годунова-Чердынцева с проституткой Ивонн, перенесенных затем в «Лолиту», много говорится о «вольном волшебстве случая», отменяющего «популярную реальность»[255], – и такой же волшебный случай приводит Гумберта в дом Шарлотты, а затем устраняет препятствия на его пути к преступной цели.
Еще прежде того образ «слегка одряхлевшего, но вполне узнаваемого Гумберта, сопровождающего свою нимфетку»[256] возникает в берлинском рассказе «Сказка» (1926), а собственно тема «Лолиты» излагается (филистером Щеголевым) в третьей главе «Дара» («Эх, кабы у меня было времечко, я бы такой роман накатал… Из настоящей жизни»), но впервые она получает художественную обработку, как это случалось у Набокова и с другими книгами, в драматической форме[257].
Речь идет о написанной в 1938 году на французской Ривьере драме «Изобретение Вальса», в которой Набоков испытывает на прочность несколько сюжетных и тематических опор для сочинения с более сложной конструкцией. Конфликт вокруг притязаний Вальса на мировое господство оттеняет в этой пьесе якобы побочное, но более важное в драматическом отношении его и генерала Берга противостояние из-за юной дочери последнего. Почти маниакальное стремление сорокалетнего Вальса заполучить дочь вдовца Берга, его готовность жениться на ней, его мечты об идиллической жизни с ней на отдаленном тропическом острове, само имя ее, Анабелла, отсылающее к стихотворению Эдгара По «Аннабель Ли», ставшему одним из ключевых источников «Лолиты», а главное, личная таинственная трагедия Вальса, связанная, насколько можно судить, с ребенком, которого он потерял, – всё это контуры будущего романа о роковом влечении Гумберта к Лолите. У Вальса и Гумберта немало общего. Оба одиноки, оба скрывают свое настоящее имя, оба отчасти поэты. Подобно Вальсу, Гумберт мечтает увезти Лолиту в мексиканскую Аркадию, и его так же всю жизнь преследует тень его первой, давно умершей ривьерской возлюбленной (Аннабеллы).
Летом 1939 года Набоков сделал новую, расширенную редакцию уже изданной к тому времени пьесы, значительно усилив линию Анабеллы[258], и только несколько месяцев спустя, заменив вдовца на вдову, а семнадцатилетнюю Анабеллу на безымянную девочку двенадцати лет (что было бы немыслимо в театре того времени), он принимается за новую разработку темы в рассказе «Волшебник».
Все это говорится с оглядкой на тот удивительный, почти невероятный и в своем роде беспримерный в литературе случай, когда сюжет, развившись из драматургических коллизий и пройдя несколько стадий обработки, сначала в повести, а затем в романе, получает свое итоговое изложение вновь в драматической форме – сценарии. Даже в богатой причудливыми узорами жизни Набокова такое спиральное развитие темы может показаться едва ли не предумышленным.
Но читатель видит сочинения писателя иначе, чем их видит он сам. Найденные им однажды сюжеты, мотивы, образы, характеры складываются у него в одну многоголосую партитуру, в которой темы, изложенные, например, в стихотворении, и темы, развитые в драме или рассказе, сосуществуют так же естественно, как если бы то было в рамках одного произведения. Писатель видит всю составленную им сложную мозаику целиком, читатель – только те части, на которых он сосредоточен в настоящее время. Это различие в авторском и читательском восприятии Набоков проецировал на собственные книги, подспудная интрига которых нередко строится на том, что герой не в состоянии одним усилием рассудка охватить картину своей жизни, упуская важные детали и совершая непростительные ошибки (Тременс в «Трагедии», Трощейкин в «Событии», Герман в «Отчаянии», Гумберт в «Лолите»). Единственно доступный читателю способ приблизиться к авторскому восприятию книги – это многократное сопоставительное и реверсивно-восстановительное чтение, постепенно открывающее взаимосвязь ее элементов. Так и Гумберт, взявшись за историю своей жизни, незадолго до смерти как бы «перечитывает» ее.
В своей «исповеди», сложив вместе разрозненные на первый взгляд части прошлого и подметив задним числом некоторые удивительные совпадения, он находит ответы на многие вопросы, например, что Лолита «волшебным и роковым образом <…> началась с Аннабеллы». Но далеко не на все. Он, к примеру, и post factum и даже post scriptum, перечитав свою повесть, не понимает значения сказанной Лолитой искусственной фразы: «я не дама и не люблю молнии», хотя сам же приводит название одной пьесы Куильти («Дама, любившая молнию») и вспоминает одно печальное событие своего детства: смерть матери от удара молнии. В этом смысле невнимательно прожитая жизнь у Набокова подобна невнимательному чтению сложного, многозначительного сочинения.
Иначе, иными средствами, но не менее отчетливо эта мысль выражена и в сценарии «Лолиты», что заставляет нас обратить внимание на следующую важную особенность набоковского искусства.
Зачарованные Набоковым читатели раньше или позже открывают принцип устройства его романов, в которых «дело не столько в самих частях, сколько в их сочетаниях», если вспомнить подсказку из «Севастьяна Найта», но полученный метод чтения оказывается довольно трудно распространить на его же драматические произведения. А между тем основные композиционные приемы у Набокова неизменны и в драматической форме. Иначе говоря, известная многозначность в компоновке частей и неслучайность частностей на первый взгляд кажутся возможными лишь в разветвленном, многослойном повествовании с несколькими пересекающимися сюжетными линиями и множеством связанных мотивов, то есть на пространстве романа или повести, позволяющем автору незаметно протягивать тематические нити от одного удаленного пункта к другому[259]. Но у Набокова образы, мотивы, описательные околичности и разного рода отсылки и указания, имея особую, контрапунктную организацию, несут бремя дополнительного значения и на короткой дистанции рассказа (один из лучших тому примеров – «Сестры Вейн», 1951), и даже в тех произведениях, которые в силу их жанровых свойств как будто должны быть свободны от скрытых узоров и каверзных зеркал.
2
Исследователи «Лолиты» вынуждены прибегать к таким не имеющим прямого отношения к изящной словесности понятиям, как цензура, свобода слова, нравственное воздействие, закон. Литературоведам приходилось (да и теперь порой приходится) терпеливо разъяснять возмущенным читателям «Лолиты», что произведение искусства, о каких бы низких предметах в нем ни шла речь, остается произведением искусства и подлежит рассмотрению в терминах эстетики, а не социологии или юриспруденции. Набоков был тем, что несколько выспренно зовется мыслителем, и в сочетании с тем, что зовется художником, достиг в своих сочинениях такой глубины и гармонии, которые сами по себе и есть воплощенная этика. Когда роман вышел в Америке, там пользовалась успехом литература совсем иного рода и качества. Поэтика «Лолиты», самый прищуренный взгляд автора на американскую действительность и действительность per se, как отметили уже первые ее рецензенты (Холландер, Бреннер, Притчетт), ошеломляли в той же мере, что и ее содержание. «Лолита» не имела ничего общего, кроме американской топонимики, ни со знаменитым «Атлантом» (1957) другой уроженки Санкт-Петербурга Айн Рэнд, ни с «Особняком» (1959) Фолкнера, ни с «Пересмешником» (1960) Харпер Ли[260]. Нельзя было отнести «Лолиту», с ее утонченным analyse de l’amour и колоссальным культурным основанием, и к противоположному «подпольному» направлению, представленному в те годы так называемыми «разочарованными» с их прагматичным эпатажем и «спонтанным» письмом[261].
С другой стороны, двенадцатилетняя Лолита столь же мало напоминала бывших в то время в моде так называемых «прикольных» девиц (pin-up girls), вроде Бетти Пейдж, Сьюзи Паркер, Бетти Грейбл, Эллисон Гейз (Hayes) и др., чьи фривольные изображения тиражировали образ соблазнительной мещанки-домохозяйки и украшали стены казарм и кабины грузовиков дальнего следования[262]. Романом восхищались знатоки литературы, но обратной стороной взрывчатой новизны книги была скорая обывательская вульгаризация ее темы. Для превращения Лолиты в один из символов бульварной культуры, влияние которого давно уже изучают отнюдь не только литературоведы[263], потребовалось «искажающее и упрощающее действие кривой линзы» коммерческого кинематографа, чему Набоков, как он ни старался, не мог помешать[264].
Само собой разумеется, что сценарий «Лолиты», хотя и был написан по заказу голливудских постановщиков, не имеет решительно никакого отношения к той общедоступной ярмарочной культуре с ее назойливыми зазывалами перед каждым балаганом, которую Набоков лучше других умел высмеивать[265]. «Массовое искусство», что бы это ни значило, при всей его изобретательности и при всем его показном блеске сводится в конце концов к фарсу, то есть к тому, что, как патентованный препарат, вызывает гарантированный эффект и легко усваивается. Сложноустроенная трагедия Набокова, написанная им для Кубрика и только весьма незначительно использованная заказчиком в его чопорной картине (1962), была штучной, а не фабричной выделки, и для нее попросту не существовало ни подходящего постановщика, ни готовой аудитории[266].
3
Задача экранизации набоковского романа – что относится не только к «Лолите» – осложняется еще и тем, что потенциальные возможности киноисполнения книги уже учтены ее автором, то есть уже вплетены в ткань повествования; а поскольку литература есть искусство много более изощренное и мощное, чем кинематограф («Когда еще кинематографисты достигнут того уровня, которого достигли мы?» – восклицает в «Аде» Ван Вин, философ и писатель), эти возможности целиком прозой и поглощаются, утрачивая свою идентичность и становясь средствами и приемами словесности. Так композитор может шутя ввести в свой опус мотив уличной песенки, наполнив его с помощью симфонических средств совсем иным содержанием.
В «Лолите» не раз указывается на возможность изложения той или иной сцены средствами фильмового производства («она направилась к раскрытому чемодану <…> как будто в замедленном кинематографе…»), а в одном месте рассказчик прямо обращается к будущему режиссеру, иронично предлагая ему использовать затасканный голливудский прием (и тем самым, конечно, предостерегая его от этого):
Безмятежная Лолита стала изучать фотографии мошенников, выставленные в простенке. <…> Насупленный Сулливан подавался с предупреждением: вероятно, вооружен и должен считаться чрезвычайно опасным. Если вы хотите сделать из моей книги фильм (обратите внимание на это «если». – А. Б.), предлагаю такой трюк: пока я рассматриваю эти физиономии, одна из них тихонько превращается в мое лицо (гл. 19, Ч. II).
Эта «подсказка» потенциальному простаку-постановщику тем более комична, что в другом месте, еще перед этим, Гумберт с горькой насмешкой говорит о кинематографе, как бы примеривая его сюжетные и жанровые шаблоны к Лолитиной неповторимой судьбе:
Больше всего она любила следующие сорта фильмов, в таком порядке: музыкально-комедийные, гангстерские, ковбойские. В первых настоящим певцам и танцорам, участвующим в них, приписывались ненастоящие сценические карьеры в какой-то – в сущности, «гореупорной» – сфере существования, из которой смерть и правда были изгнаны <…> (гл. 3, Ч. II).
Кончается же тема кинематографа в романе на по-настоящему трагической ноте: в свою последнюю встречу с Лолитой, осунувшейся и брюхатой, Гумберт узнаёт, что вместо осуществления ее мечты об игре в фильмах того любимого ею первого сорта, музыкально-комедийных, Куильти принуждал ее с другими детьми «Бог знает что проделывать <…> в голом виде, пока мадам Дамор производила киносъемку» (гл. 29, Ч. II). Детская мечта Лолиты попасть в «гореупорную» сферу существования оборачивается обычной жизненной драмой – вместо роскошной иллюзии она, сбежав от Куильти, живет в убогом домишке на окраине нищенского городка, как бы раз навсегда выйдя из кинозала в пасмурную явь. Цветная голливудская оболочка лопается, обнажая грубую сущность вещей; ее роман со знаменитым драматургом, лицо которого украшает папиросные рекламы на последних страницах пестрых журнальчиков, как оказалось, – только короткий эпизод, очередное его приключение, как уличное «грязное мороженое» в финале «Анны Карениной», которого ему вдруг захотелось. Кинематографическим оказывается не стиль романа как таковой, а стиль изображаемых Набоковым отношений и чаяний. И фальшивый блеск ее увлечения Г. Г. – это на самом деле мерцание киноэкрана, на котором Лолита воображала себя рядом со «статным красавцем», чем Г. Г. изначально и воспользовался: «Вдруг я ясно понял, что могу поцеловать ее <…> с полной безнаказанностью – понял, что она мне это позволит и даже прикроет при этом глаза по всем правилам Голливуда. <…> Дитя нашего времени, жадное до киножурналов, знающее толк в снятых крупным планом, млеющих, медлящих кадрах, она, наверное, не нашла бы ничего странного в том, чтобы взрослый друг, статный красавец…» (гл. 11, Ч. I).
На этот парадокс попалось немало литературных критиков, начиная с первых эмигрантских, отмечавших особую, якобы сценарную природу набоковских романов, и прежде всего «Камеры обскура» (1933). На самом деле эта книга вовсе не отвечала кинематографическим требованиям. Не удивительно, что, к примеру, работавший в Голливуде С. Л. Бертенсон полагал, что экранизировать «Камеру» затруднительно. Вот что он записал в своем дневнике:
3 января 1932. <…> Ходил знакомиться с Набоковым (Сириным). Сказал о желании Майльстона привлечь его к писанию сценариев для Холливуда (вернее, «стори», которые могут быть переработаны в сценарии). Он очень этим загорелся. Сказал, что буквально обожает кино и с увлечением смотрит фильмы. Дал мне рукопись своего нового романа «Камера обскура» <…>
7 января 1932. Прочел «Камеру обскура» Набокова. Вряд ли это пригодно для американского фильма. Чересчур эротично и нет ни одного положительного лица. Герой, что называется, «мокрая курица», а героиню, чтобы возвести ее в центр фильма, надо сделать хотя бы и отрицательной, но более значимой.
Сегодня завтракал у Набоковых и расстался с ним на том, что он пришлет мне пересказы тех своих вещей, которые он считает пригодными для кино[267].
Нелепо было бы ожидать от романа наличия в нем всех необходимых Голливуду ингредиентов, да еще в «пригодных» для кинематографа пропорциях. Как будто в насмешку над самой идеей возможности того, что кинематограф может быть ровней литературе и даже направлять ее, случай сыграл с провальной экранизацией «Камеры обскура» (1969 года, режиссер Тони Ричардсон) злую шутку: датская актриса, исполнявшая роль Магды, использовала изысканный сценический псевдоним Анна Карина, в то время как в самом романе (за тридцать пять лет до этого!) была выведена бездарная фильмовая актриса с нелепым псевдонимом Дорианна Каренина, не имевшая ни малейшего представления о романе Толстого. Парадокс, о котором мы говорим, конечно, мнимый и давно уже был разъяснен Владиславом Ходасевичем, одним из лучших критиков, когда-либо писавших о Набокове.
Неужели же, в самом деле, – спрашивал он после выхода «Камеры обскура», – писателю стоило перенимать стиль синематографического повествования единственно только ради этого стиля? Ведь, строго говоря, такой литературной задачи даже и существовать не может, потому что чем совершеннее она будет выполнена, тем глубже совершится перерождение романа в расширенный, детально разработанный синематографический сценарий – и только. <…> Сирин вовсе не изображает обычную жизнь приемами синематографа, а показывает, как синематограф, врываясь в жизнь, подчиняет ее своему темпу и стилю, придает ей свой отпечаток, ее, так сказать, синематографирует. <…> Синематографом пронизан и отравлен не стиль романа, а стиль самой жизни, изображенной в романе. <…> Сирин в своих литературных приемах подражает <…> синематографу лишь постольку, поскольку ему подражает и следует сама жизнь современная, пропитанная духом этого лжеискусства так, как никогда никаким настоящим искусством она пропитана не была[268].
Эти очень точные замечания позволяют многое понять и в характере Шарлотты («слабый раствор Марлены Дитрих», как она аттестуется в «Лолите»), и в природе самих коллизий романа, обратить внимание, например, на то, как легко чета Фарло поверила в мелодраматическую историю о том, что Лолита на самом деле – дочка Гумберта, плод давнего адюльтера.
В неопубликованной заметке «Об опере» (1928) Набоков, обратившись к другому виду синтетического искусства, задался вопросом, который вполне применим и к кинематографу: «является ли опера естественным искусством?» «Под естественным искусством, – продолжает Набоков, – я подразумеваю такое искусство, которое либо имеет свое подобие или соответствие в природе, как, например, дорическая колонна и бетховенская соната, либо непосредственно подражает природе или человеческой жизни, как, например, живопись или театр»[269]. Поскольку опера «есть смесь нескольких искусств», для ответа на поставленный вопрос следует определить «какие условия требуются для того, чтобы это сочетанье [искусств] было естественным?»[270]. Применительно к кинематографу ответ на этот вопрос содержится в предисловии Набокова к сценарию «Лолиты», в котором он говорит о попытке уберечь свой замысел от режиссерского вмешательства: «Единственное, что я мог сделать в данном случае, это обеспечить словам первенство над действием, настолько ограничивая вмешательство постановщиков и исполнителей, насколько это вообще возможно» (курсив мой. – А. Б.). Другими словами, достижение естественности сочетания нескольких видов искусств (изобразительных, литературы, театра и музыки) в фильмовой версии «Лолиты», по Набокову, возможно лишь в том случае, если все эти виды станут служить воплощению авторского замысла, если удастся «напитать все представление искусством и волей одного человека», превратив разобщенные средства различных искусств в единый инструмент, дающий тот же, что и книга, абсолютный, а не относительный художественный результат. В предисловии к сценарию Набоков касается специфических трудностей такого рода синтеза. Он пишет, что еще на начальной стадии обдумывания он «наметил ряд кадров для действия в „Зачарованных Охотниках“, но теперь работу безупречного механизма оказалось страшно трудно отладить таким образом, чтобы через сквозное взаимодействие звуковых эффектов и комбинированных съемок можно было передать и будничную серость утра, и переломный момент в жизни законченного извращенца и несчастного ребенка»[271].
Если «Камера обскура» напоминает сценарий, то сценарий «Лолиты», обратно, походит на роман – странный, поэтичный, сновидческий роман, по складу и текстуре столь же отличающийся от ловко скроенного «бестселлера», сколько и от голливудских фильмов того времени (из европейских же по уникальности атмосферы и тщательности композиционного строя ему могла бы соответствовать картина Алена Ренэ «В прошлом году в Мариенбаде» (1961) по сценарию почитавшегося Набоковым Аллена Роб-Грийё, – картина, которую Набоков посмотрел в марте 1962 года и назвал одной из немногих, запомнившихся ему за последние двенадцать лет[272]). «Грубой линзе кинематографа» в сценарии противопоставлена laterna magica набоковского словесного искусства. Материал в нем организован строго и стройно, почти в музыкальном смысле этого слова. Так, событие гибели Шарлотты и тема фатума, получающая затем развитие в эпизодах преследования досужим драматургом Куильти странствующего с Лолитой псевдоотчима Гумберта, вводится как будто случайным упоминанием местного рамздэльского банкира Мак-Фатума перед сценой купания Г. Г. и Шарлотты в озере, когда Г. Г. приходит на ум утопить ее. В сценарии этот второстепенный персонаж, представляющий собой персонификацию темы Рока, упоминается сразу перед тем, как разражается семейная катастрофа – Шарлотта находит тайный дневник Гумберта. Следующая за этим смерть Шарлотты под колесами автомобиля заставляет Г. Г. и вместе с ним читателя заподозрить предумышленность всего происходящего, руку того самого вершителя человеческих судеб Мак-Фатума. Другой пример незаметного введения темы находим во втором акте сценария: в случайной как будто ремарке говорится о том, что радиаторная решетка автомобиля Г. Г. была забита мертвыми бабочками. Так исподволь вводится важная тема авторского присутствия и в следующей же сцене появляется во плоти «лепидоптеролог Владимир Набоков», занятый у дороги ловлей бабочек, причем его имя приводится только в ремарке и, следовательно, не должно звучать с экрана[273].
Условия коммерческого производства фильмов не позволяли вместить слишком большое полотно в стандартную раму, и Набокову пришлось сильно обрезать первую версию сценария; однако цель, которую он преследовал и в сокращенной редакции, оставалась неизменной – создать такую последовательность эпизодов и образов, так скомпоновать их, чтобы в течение двух часов, отведенных продюсерами картине, сам зритель оказался бы «зачарованным охотником», погруженным не в привычную полутьму банальной мелодрамы, но в некий эстетический транс, заставляющий испытать всю ошеломительную силу искусства автора, ведущего его «от мотеля к мотелю, от одного миража к другому, от кошмара к кошмару»[274]. Предполагаемое потрясение или даже оторопь в конце сеанса были бы лучшей наградой сценаристу, а возмущенно покинувшие зал зрители ничем бы не отличались от тех читателей, которые гневно захлопнули книгу на середине главы.
4
В своей книге о рефлексии в литературе и кинематографе Роберт Стэм приводит несколько тонких замечаний в отношении кубриковской «Лолиты», объясняющих главные различия между сценарием и фильмом. Он обращает внимание на то, что сценарий, в отличие от фильма, стремится к замедлению действия и снижению драматизма. Кубрик не находит кинематографических эквивалентов для многих приемов Набокова – таких как опровержение читательского ожидания, частая дезориентация читателя, особенно в том, что касается «правдивости» изложения, потайное, за счет метафор и незаметного переключения регистров, введение эротических мотивов и т. д.[275]
Другой исследователь, Томас Нельсон, назвавший сценарий Набокова «в большей степени театральным и поэтичным, чем кинематографичным», справедливо заметил среди прочего, что в фильме Кубрика по различным причинам не была «в достаточной мере драматизирована любовная сторона гумбертовской одержимости нимфетками»[276].
К этим претензиям можно прибавить немало новых, например, что одни сцены фильма нестерпимо мелодраматичны, в то время как другие сняты в стилистике нуара и черной комедии; что одни эпизоды затянуты, а другие – как треплемый ветром иллюстрированный журнал; что в картине почти нет характерных деталей американского дорожного быта, которыми наполнены роман и сценарий, поскольку Кубрик снимал свой фильм в Англии; или что в экранизации не слишком уместны режиссерские референции к собственным фильмам, как это происходит в первой же сцене в отношении «Спартака».
Едва ли, впрочем, Гаррис и Кубрик могли предполагать, когда брались за «Лолиту», с какими сложностями иного рода им придется столкнуться. В то время в Америке действовал суровый цензурный кодекс («The Motion Picture Code»), до октября 1961 года попросту запрещавший использовать в кинематографе «темы отклонений в половых отношениях и любые намеки на таковые» (п. 6). Ко времени выхода работы Кубрика (в июне 1962 года) это правило было смягчено («в отношении тем половых отклонений должны применяться сдержанность и осторожность»), но по-прежнему не дозволялось открыто показывать страстное влечение человека средних лет к школьнице, чем объясняется странная холодность исполнителя главной роли – Джеймса Мейсона. С точки зрения цензуры роман Набокова был нефильмоспособным. Запрещалось показывать полностью обнаженное тело (раздел «Костюмы»), «страстные поцелуи и объятия»[277], «возбуждающие танцы» и т. п. Кодекс регламентировал даже простую съемку спальных комнат, которая должна была «сопровождаться хорошим вкусом и деликатностью»[278], в связи с чем нельзя не вспомнить тот пассаж из «Лолиты», в котором Гумберт после утех с Лолитой в «Зачарованных Охотниках» приводит постель в «несколько более приличный вид, говорящий скорее о покинутом гнездышке нервного отца и его озорницы-дочки, чем о разгуле бывшего каторжника с двумя толстыми старыми шлюхами»[279]. Для набоковского романа имели силу лишь те ограничения, которые налагаются искусством, то есть чем-то таким, что по своей сущности воплощает индивидуальную свободу духа и является его прямым продолжением; для кинокартины же действовали ограничения, налагаемые законом, то есть чем-то внешним по отношению к индивидуальной свободе выражения и таким, что отражает коллективное представление о добре и зле на данной стадии общественного развития или распада. Чтобы цензоры позволили запустить фильм в производство, Гаррису пришлось обещать, что сцена убийства Куильти, которой должна была открываться картина, не будет кровавой, что Сью Лайон (Лолита) будет казаться старше тринадцати лет, что в сцене соблазнения в «Зачарованных Охотниках» она будет облачена, как бы нелепо это ни выглядело с точки зрения искусства, «в плотную фланелевую ночную сорочку до пят, с длинными рукавами и глухим вырезом, а Гумберт будет не только в пижаме, но еще и в халате поверх нее»[280].
Позднее Кубрик признавался, что «если бы он заранее сознавал, насколько строгими будут [цензурные] ограничения, он, вероятно, вообще не стал бы снимать этот фильм»[281].
Но дело было не только в пресловутом «Кодексе сенатора Гейза» (Hays Code). В театре и кинематографе действовал (и действует по сей день) куда более влиятельный и всепроникающий свод правил, жестким принципам которого драматурги и постановщики следуют неукоснительно без всякой угрозы судебного преследования и который Набоков отменял в своем «поэтичном» сценарии.
5
В американских лекциях «Ремесло драматурга», «Трагедия трагедии» и о советской драме Набоков приходит к выводу, что драматургия – единственный род литературы, который не отвечает высоким требованиям искусства. Саму основу основ драмы – управляемый причинно-следственными законами конфликт – Набоков полагал несовместимой с понятием искусства. «Высшие достижения поэзии, прозы, живописи, режиссуры характеризуются иррациональностью и алогичностью, – утверждал он, опираясь на положение Джона Китса об «отрицательной способности» (Negative Capability) подлинного искусства, – тем духом свободной воли, который прищелкивает радужными перстами перед чопорной физиономией причинности»[282]. «Из этого рабства каузальности бегут лишь настоящие гении драматургии, – писал он в лекциях о советской драме, – или, лучше сказать, – только от того, что Шекспир или Ибсен отбрасывали те или иные требования драмы, они сумели создать великие произведения»[283].
Иными словами, действие в пьесе должно строиться не по законам здравомыслия и правдоподобия, противоречащим многочисленным родовым условностям театра и кинематографа, а по иррациональному закону искусства. Эту иррациональную составляющую применительно к драме Набоков для удобства называл «логикой сновидения» или «кошмара», противополагая всем прочим пьесам «трагедии-сновидения» – «Гамлета», «Короля Лира», «Ревизора». Лучшие его собственные пьесы основаны на «логике сна»: «Смерть», «Трагедия господина Морна», «Событие», «Изобретение Вальса» и сценарий «Лолиты».
Идея конфликта, – замечает Набоков в лекции «Трагедия трагедии», – стремится к тому, чтобы наделить жизнь логикой, которой та не обладает. Трагедии, основанные исключительно на логике конфликта, настолько же ложны по отношению к жизни, насколько идея вездесущей классовой борьбы ложна по отношению к истории. <…> Чем же в таком случае, – продолжает он, – должна быть трагедия, если я отрицаю то, что считается самой фундаментальной ее характеристикой – конфликт, управляемый причинно-следственными законами человеческой судьбы? Прежде всего, я сомневаюсь в существовании этих законов в той незатейливой и строгой форме, в какой их принимает сцена. Я сомневаюсь в том, что можно провести четкую линию между трагическим и шутовским, роковым и случайным, зависимостью от причин и следствий и капризом свободной воли. Высшей формой трагедии, – приходит он к выводу, определяя задачу драматурга-художника, – мне представляется создание некоего уникального узора жизни, в котором испытания и горести отдельного человека следуют законам его собственной индивидуальности, а не законам театра, какими мы их знаем[284].
Многие годы Набоков не оставлял надежды написать «совершенную пьесу», которая все еще «не написана ни Шекспиром, ни Чеховым». По его мнению, она должна стать в один ряд с совершенными романами, стихотворениями и рассказами и «однажды будет создана, либо англосаксом, либо русским»[285]. По-видимому, именно эту задачу он имел в виду, когда в конце 60-х годов обдумывал идею «романа в форме пьесы»[286]. Теперь уже нельзя сказать определенно, что именно он подразумевал под этим: нечто сродни знаменитому эксперименту с драматической формой в головокружительном 15-м эпизоде «Улисса» (стиль которого Набоков в американских лекциях о Джойсе определил как «комедию кошмаров»), или что-то совсем особенное и неслыханное.
После 1940 года, когда он в Америке приступил к работе над инсценировкой «Дон Кихота» для Михаила Чехова, Набоков больше не брался за пьесы. Однако он, по-видимому, ненадолго увлекся кинематографическими идеями и после сочинения сценария «Лолиты», в 1964 году, принял предложение Альфреда Хичкока написать сценарий авантюрного фильма (действие которого должно было разворачиваться в лондонском «Савое»), с условием, что ему будет предоставлена «абсолютная свобода» в его создании. Для сценария, который бы удовлетворял Набокова с точки зрения искусства, требовалось время, которым Хичкок не располагал, и этот замысел остался нереализованным. Последним приближением к «совершенной пьесе» для Набокова стала новая редакция сценария «Лолиты» для книжного издания 1973 года – его «самое дерзкое и рискованное предприятие в области драматургии»[287], где под «дерзостью» и «риском» подразумевались не тема и сюжет переложенного на драматургический язык романа, а оригинальные положения разработанной им теории драмы.
6
В сценарии, в сравнении с романом, иное освещение, иначе расставлены софиты, иной угол зрения, по-другому распределены роли. Читатель заметит, что, например, бесплотный автор предисловия к роману, Джон Рэй, в сценарии становится если не вполне действительным, то во всяком случае действующим лицом, чем-то вроде навязчивого конферансье, готового в любую минуту вмешаться в представление; что в сценарии появляются новые эпизоды и персонажи (например, чета Фаулеров), а другие, напротив, исчезают (например, Гастон Годэн и Рита); что иначе трактуется образ Моны и призрачного соперника Гумберта драматурга Куильти. Переделке подверглись тысячи деталей, изменились хронология событий, характеристики персонажей (например, Браддока, ставшего в сценарии довольно загадочной фигурой), возникли новые мотивы и темы[288]. Набокову пришлось в сценарии наладить и запустить новый передаточный механизм, действующий, как и в романе, в обоих направлениях, то есть от начала к концу и обратно (примеры скоро последуют), таким образом, чтобы ни один из элементов общей структуры не оставался праздным. Ему пришлось воссоздать однажды уже созданную художественную иллюзию реальности много более скромными драматургическими средствами – как если бы речь шла о снятии графической копии с написанной маслом картины.
В структуру романа был положен принцип составной загадочной картины (jigsaw puzzle), которую читателю следовало надлежащим образом сложить, отыскивая в отстоящих местах книги различной формы подходящие друг к другу части, постепенно открывающие истинное значение описанных событий. В романе эта цель достигается всеми возможными выразительными и изобразительными средствами, включая и те, что Набоков нашел и испытал впервые, но и будучи ограниченным скудными средствами ремарок и реплик и безысходным настоящим временем драмы, Набоков добивается в сценарии того же эффекта сцепленного множеством мелких частиц целого.
Это была, кроме того, последняя ревизия давнего замысла, окончательный смотр его художественных возможностей. Набоков внес в сценарий несколько любопытных уточнений, сделал некоторые новые акценты, создал новые связи, более рельефно осветил ключевые сцены. В этом смысле сценарий относится к роману, как монохромная фотография к многоцветной, и может служить своеобразным пособием по нему, разъясняющим сложные места книги и позволяющим заполнить некоторые трудные клетки головоломной крестословицы.
Так, сценарий сообщает много нового об авторе псевдомифологических фресок, украшающих отель «Зачарованные Охотники». Его имя, Льюис Раскин, не названное в романе, но упомянутое в сценарии, напоминает сразу о двух английских писателях – Льюисе Кэрролле и Джоне Раскине. Во втором акте доктор Браддок, объясняя многозначительные детали фресок семейству Роуз, говорит между прочим: «Я хорошо знал Льюиса Раскина, создавшего эти чудные фрески. Это был мягкий человек, меланхоличный учитель рисования, возглавивший впоследствии школу для талантливых девочек в Брайсланде. Он питал романтичные чувства к одной из своих юных подопечных и покончил с собой, когда она покинула школу. Теперь она замужем за миссионером». В начале третьего акта сообщается, кроме того, что он был соавтором Куильти по той самой пьесе для детей, роль в которой затем сыграет Лолита незадолго до бегства с Куильти.
Джон Раскин не преподавал рисование в школе, но сам был художником и читал лекции по истории живописи. Его возлюбленная, Роза Ла Туш, которой он увлекся, будучи человеком средних лет, а ей было всего одиннадцать, не стала женой миссионера, но была набожной девочкой и впоследствии отказалась от брака с Раскином по религиозным мотивам[289]. Хорошо известно также о «юных подопечных» застенчивого Льюиса Кэрролла, в молодости мечтавшего стать художником.
Сопоставив обстоятельства Кэрролла и Раскина, легко понять, что Браддок попросту морочит своих слушателей и что он представляет в сценарии (но не в романе) интересы «высших сил», то и дело дающих ослепленному страстью Гумберту понять, что узор его судьбы отражается во всех как будто случайно расставленных перед ним зеркалах.
Когда Лолита обращает внимание Гумберта на эти фрески, он только отмахивается («Ах, мифологические сцены на новый лад. Плохое искусство, во всяком случае»), но если бы он взглянул на них непредвзято, он бы заметил, что они очень точно отражают происходящее с ним и с Лолитой в это самое время. Подсунув Лолите за ужином снотворную пилюлю и оставив ее одну в номере, он пускается блуждать по отелю, дожидаясь, пока она крепко уснет. Он проходит мимо доктора Браддока, когда тот, разъясняя своим компаньонкам одну из сцен фресок, говорит: «А здесь тема меняется. Охотник полагает, что он усыпил маленькую нимфу, в то время как это она погружает его в транс». Но зачарованный Гумберт его не слышит.
Набоков как будто хочет сказать, что духовная кривизна Гумберта искажает саму реальность и его разлад с действительностью усугубляется тем сильнее, чем ближе он оказывается у вожделенной цели.
Подыскивая свободный номер для Гумберта, портье в «Зачарованных Охотниках» выясняет в его присутствии намерения двух постояльцев: одного по имени доктор Лав (Love), а другого – мистер Блисс (Bliss). Если бы разговор велся по-русски, это было бы все равно что упомянуть, скажем, доктора Любимова и тут же – господина Блаженко. Здравомыслящий человек непременно подивился бы тематической связанности имен да еще задумался бы об их уместности, но Гумберт не мыслит в это время здраво. Он не обращает внимания даже на то, что у полученной им комнаты тот же номер (342), что и у дома погибшей Шарлотты, в котором он еще так недавно закармливал жену барбитуратами, и на это совпадение указывает ему Лолита. Она вспоминает, что прошлой ночью, то есть в день похорон Шарлотты, о смерти которой она еще не знает, ей приснилось, будто ее мать утонула в Рамздэльском озере. Но и этот поразительный пример ясновидения не останавливает Гумберта, хотя он, разумеется, помнит, как Шарлотта едва не утонула в том самом озере.
Приснившийся Лолите сон должен был напомнить ему (и вместе с ним читателю) другой пророческий сон, увиденный Шарлоттой накануне озерного происшествия. «Тонущий, говорят, вспоминает всю свою жизнь, – рассказывала она Гумберту, когда они возвращались с озера домой, – но мне вспомнился только вчерашний сон. Ты предлагал мне какую-то пилюлю или снадобье, и голос сказал: „Берегись, Изольда, это яд“»[290]. «Какая-то чушь, по-моему», – легкомысленно отвечает на это Гумберт.
Рассматривая прием «двойного кошмара» в «Анне Карениной» (с мужиком-обкладчиком, бормочущим по-французски и что-то ищущим в мешке), разновидность которого Набоков использует в сценарии, он обращает внимание на его исключительное значение в романе Толстого. Он соединяет два индивидуальных сознания – Анны и Вронского – и указывает на то, что идея смерти «с самого начала <…> присутствовала на заднем плане ее страсти, за кулисами ее любви»[291]. К тому же выводу, возможно, пришел бы и Гумберт, обрати он внимание на провидческую сущность связанных между собою снов Шарлотты и Лолиты. Но это лишь начало узора.
Предостерегающий Голос в сценарии называет Шарлотту Изольдой, и она, конечно, могла не знать, что так звали возлюбленную легендарного рыцаря Тристана, с которым та по ошибке выпила любовного зелья, чем роковым образом навсегда связала себя с ним. Другое дело – знаток французской литературы Гумберт[292]. Тем удивительнее, что он не вспоминает о сне Шарлотты и тогда, когда за ужином в «Зачарованных», предлагая Лолите под видом витаминов снотворную пилюлю, слышит от нее: «Могу поспорить, что это приворотное зелье». Вслед за тем Лолита поясняет, что узнала о любовном зелье из кинофильма «Стан и Иззи», то есть, конечно, из «Тристана и Изольды»[293].
Если бы Гумберт соотнес сновидения Шарлотты и Лолиты и сопоставил бы их содержание с тем, что происходит в «Зачарованных», он бы, вероятнее всего, отложил свое вороватое торжество, чтобы разобраться со всем этим, и, может быть, даже отменил его вовсе.
Теперь только, дойдя до середины второго акта и собрав все разрозненные звенья длинной цепи (пилюля – снадобье – яд – Изольда – снотворная пилюля – «Иззи»), читатель получает необходимые сведения для нового открытия.
В начале первого акта, вскоре после своего устройства в доме Шарлотты, Гумберт записывает в дневник приснившийся ему сон, в котором он, Темный Рыцарь верхом на вороном коне, скачет мимо трех нимфеток, играющих на солнечной поляне. Одна из девочек – хромая. Лолита ловко усаживается позади него, и «конь уносит их в глубину Зачарованного Леса».
Прихотливое на первый взгляд собрание мимолетных образов этого сна, хронологически первого из всех трех сновидений в сценарии, напоминает тот со всех сторон изрезанный фестонами фрагмент складной картины, который дольше других приходится вертеть в руках, так и этак пристраивая его к уже сопряженным частям, оттого что в нем сходятся темы разного рода и непросто определить глубину перспективы: тут и чья-то жилистая рука с перстнем, и часть ландшафта в окне, и яркий витраж, и бархатный подол платья (или это только продолжение драпировки?). Читатель, конечно, заметит, что хромоножка во сне Гумберта – это страдающая полиомиелитом одноклассница Лолиты Джинни Мак-Ку, в доме которой он должен был поселиться в Рамздэле: Лолита рассказывает ему о Джинни в день его приезда. Читатель догадается, кроме того, что третья нимфетка во сне Гумберта – это Филлис Чатфильд, товарка Лолиты, с которой она не слишком пристойно будет коротать время в лагере «Ку». Но ему нелегко проследить – как раз в силу густоты рисунка – дальнейшее следование мотивов, во-первых, ко сну Шарлотты (Изольда – снадобье – рыцарь Тристан – «Темный Рыцарь»[294]) и, во-вторых, к фрескам в «Зачарованных Охотниках» («Зачарованный Лес» во сне Гумберта).
Мы вновь в середине второго акта. Утро. Всё кончено. Чернокожая горничная складывает белье в тележку. Доктор Браддок разъясняет семейству Роуз образы фресок и рассказывает о судьбе их автора. «Разве три эти девочки, танцующие вокруг спящего охотника, не восхитительны?» – восклицает чувствительная миссис Роуз. «Почему у одной из девочек забинтована нога?» – спрашивает ее двенадцатилетняя дочь, но вопрос, разумеется, остается без ответа.
7
«Вот нервная система книги. Вот тайные точки, подсознательные координаты ее начертания», – писал Набоков в Послесловии к роману. И вот таковые же сценария. Сон Гумберта, этот краткий конспект грядущего, предвосхищает не только его приезд с Лолитой в отель «Зачарованные Охотники», но также конную прогулку в заповеднике «Розовых Колонн» и ту сцену в конце второго акта, в которой он наблюдает за Лолитой и двумя другими девочками (у одной из которых длинная ссадина на ноге), сидящими под солнцем на краю бассейна в «Райской Хижине». Впрочем, три взаимосвязанных сновидения трех главных действующих лиц не много стоят по отдельности, зато, будучи сведены вместе, они способны потрясти онтологические основы породившей их реальности – поскольку сама эта связанность указывает на закулисного постановщика, увлеченного куда более замысловатой игрой, чем та, в которой заняты и Гумберт, и Лолита, и даже таинственный Куильти, кем бы он ни был на самом деле.
У Набокова не бывает собственно театра, но всегда театр в театре. В 1940 году, сочиняя по заказу Михаила Чехова пьесу по «Дон Кихоту», Набоков предложил ввести в круг действующих лиц одно особенное, которое, изредка появляясь, «как бы руководит действием»[295]. Такой распорядитель есть и в сценарии «Лолиты», но его присутствие незримо, он подряжает на мелкую работу своих приказчиков (как это происходит во многих его романах) – доктора Браддока, Куильти с его спутницей Вивиан Даркблум (Vivian Darkbloom), случайно встреченного на дороге энтомолога «Владимира Набокова» (Vladimir Nabokov), объясняющего Гумберту разницу между видом и индивидом, и это они, вместе и врозь, увлекают и зачаровывают Гумберта и Лолиту и принуждают их играть в пьесе, глубокий замысел которой им неведом. В инсценировке «Дон Кихота» одни персонажи должны были «странным образом напоминать других и как бы всё снова и снова представать перед Кихотом, хотя на самом деле они и другие». «Это просвечивание лиц представляется мне как сон <…>», – писал Чехов Набокову[296].
Не так ли в сценарии «Лолиты» Гумберта обступают разные маски одного и того же мистера Ку[297]? Не так ли повторяются, а лучше сказать, просвечивают одни и те же положения?
Во многих своих книгах Набоков ставит героя перед метафизической задачей, которую ему надлежит решить – быть может, ценою жизни. Так, шахматисту Лужину следует выработать защиту против «повторения ходов» в его жизни; Цинциннату Ц. выяснить, мнима ли смерть в мнимом мире, или же она таинственно «мила»; герою «Арлекинов» Вадиму Вадимычу N. – с помощью Мнемозины обратить время вспять, чтобы, подобно герою Пруста, наконец «обрести» его и самого себя; художнику Синеусову из «Solus Rex» – воскресить свою жену силой искусства; Филиппу Вайльду из незавершенной «Лауры», напротив, – уничтожить себя и свою неверную жену неумолимой силой мысли. Сам Гумберт ставит перед собой задачу того же метафизически-изыскательного рода: «определить раз навсегда гибельное очарование нимфеток». Однако, решая ее в своих записках, он приходит к проблеме много более важной (разрешение которой в финале книги как раз опровергает его изначальное заблуждение относительно «нимфеток»): что́ есть ложное и что́ есть истинное в сложном узоре его жизни? Для ее решения Гумберту, как и Лужину, требуется сначала научиться замечать «повторение ходов», чтобы в нужный момент выбраться из зеркального тупика.
В «Зачарованных Охотниках» Гумберту между прочим сообщают, что в отеле проходит собрание «экспертов по розам». Затем в его с Лолитой комнату приносят букет роз (подношение от Куильти, как сообщается в ремарке, но о том не знают герои); затем, после ужина в украшенном фресками зале и после фокуса со снотворной пилюлей, Гумберт оказывается на темной веранде гостиницы, где его втягивает в довольно инфернальную беседу подвыпивший незнакомец (все еще неизвестный ему Куильти), под конец замечающий: «Этой вашей девочке нужно много сна. Сон – роза, как говорят в Персии. Хотите папиросу?» Для Гумберта этот ряд навязчивых намеков остается раздражающе непонятным, оттого что он, в отличие от читателя, не знает ни его экспозиции, ни пуанты. Вот почему он не вспоминает об этом разговоре, когда, несколько недель спустя, уже в Бердслее, мимоходом знакомясь с Куильти (в романе этой сцены нет), слышит от него тот же вопрос: «Хотите папиросу?» Вслед за тем Куильти произносит фразу, которой едва не выдает себя: «Это сигареты очень редкого испанского сорта, специально для меня изготовленные, для удовлетворения моих неотложных нужд». Но Гумберт не понимает, к чему клонит Куильти. Он не знает, что его Лолита для Куильти – Долорес и именно это звучное испанское имя Куильти силится вспомнить (или делает вид, будто силится вспомнить) много раньше, еще до повышения Г. Г. из разряда жильца в разряд сожителя, во время разговора с Шарлоттой в Рамздэле на школьном балу:
Куильти. Скажите, это ведь у вас была маленькая дочь? Погодите. С чудесным именем. Чудное, мелодичное, лирическое имя…
Шарлотта. Лолита. Уменьшительное от Долорес.
Куильти. Да, конечно: Долорес. Слезы и розы[298].
Вот где, стало быть, истоки «розового» мотива в «Зачарованных», вот почему Куильти сначала посылает Долорес розы, а потом на веранде говорит Гумберту, что сон – это роза, и вот почему в их вторую встречу в Бердслее он рассказывает ему о сигаретах редкого испанского сорта[299].
Такими неприметными нитями скреплены многие отстоящие эпизоды сценария. Чтобы заметить одни из них, довольно перечитать книгу, другие требуют вдумчивого исследования и проступают лишь на известной глубине оного. Пример тому – две решающие сцены пьесы, два главных поворотных пункта действия, отделенные и временем, и пространством, и обстоятельствами их участников. Первая (в конце первого акта) – это сцена разоблачения Шарлоттой Гумберта после их возвращения с озера, в котором она едва не утонула. Вторая (середина третьего акта) – это последнее свидание Гумберта с Лолитой в Эльфинстонской больнице в день ее бегства с Куильти. Что же соединяет обе сцены, какие тайные знаки на этот раз пропадают втуне?
Вернувшись с Шарлоттой домой, Гумберт обнаруживает, что забыл на озере солнечные очки. «Я купил их в Сен-Топазе и никогда нигде не забывал», – говорит он. Шарлотта отсылает его назад на поиски, а сама, пользуясь его отсутствием, вскрывает давно интригующий ее ящичек стола, в котором Гумберт прячет свой заповедный дневник, содержащий описание его преступной страсти к Лолите. Не отыскав очков, Гумберт вскорости возвращается – в тот самый момент, как обманутая и обреченная жена, обливаясь слезами, строчит свои гневные письма.
В палате Лолиты в Эльфинстонской больнице Гумберт замечает на ночном столике стакан с розой. Лолита уверяет его, что цветок принесла ее сиделка Мария, с которой она сговорилась морочить Гумберта. Затем он обращает внимание на пару мужских солнечных очков на комоде, забытых, разумеется, Куильти, недавним посетителем Лолиты. «Я нашла их в коридоре, – поясняет Гумберту лживая сиделка, – и подумала, что они, может быть, ваши». Натюрморт довершает третья деталь этого многозначительного набора – не замеченный Гумбертом топазовый перстенек на ночном столике (Сен-Топаз – солнечные очки – озеро – кольцо с топазом) – тот самый, что он подарил Лолите в Лепингвиле на другой день после того, как она стала его любовницей в «Зачарованных Охотниках». Для Гумберта это кольцо было лишь сентиментальным рефреном к его первой любви (кольцо с топазом носила Аннабелла) и не много значило («книжки комиксов, туалетные принадлежности, маникюрный набор, дорожные часы, колечко с настоящим топазом, бинокль…»), но для Лолиты оно было, как оказалось, дорого. Это был подарок первого мужчины, в которого она влюбилась по всем правилам голливудских картин (лагерный сатир Чарли Хольмс, тоже обреченный, не в счет), знак ее принадлежности к тому иллюзорному кинематографическому миру человеческих отношений, в который она так стремилась, и теперь, оставляя Гумберта ради другого, она оставляла и подаренное им кольцо.
8
«Для меня рассказ или роман существует, только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением, а это, в свой черед, я понимаю как особое состояние, при котором чувствуешь себя – как-то, где-то, чем-то – связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма», – заметил Набоков в Послесловии к роману.
Чувство причастности к иным сферам посещает и Гумберта, сознающего, что с окружающей его явью что-то неладно, что «метины не те». И мне кажется, что речь у Набокова идет о смутном ощущении, что сама действительность имеет эстетическую организацию, а это, в свою очередь, указывает на Автора, которого, быть может, и «нет в зале», но чье участие в судьбах героев оттого не менее деятельно. Главные строки «Лолиты» раскрывают спасительное значение покаянной «исповеди» героя, позволившей ему посредством искусства одолеть ложный порядок вещей и прервать дурную цепь повторений и заманчивых отражений, задуманных мелким бесом в обличье Куильти. Вот эти строки: «Но покуда у меня кровь играет еще в пишущей руке, ты останешься столь же неотъемлемой, как я, частью благословенной материи мира, и я в состоянии сноситься с тобой, хотя я в Нью-Йорке, а ты в Аляске».
Спустя три года после бегства Лолиты, в Бердслее, Гумберт принимает экзамен по литературе (аудитория 342). Вопрос: «Как Эдгар По определил поэтическое чувство?» – приводит в замешательство одного из студентов. Участливый однокашник передает ему записку с неполным и оттого неверным ответом: «Поэзия – это чувство интеллектуального блаженства»[300]. Замечательно, что после всех испытаний на внимательность читатель сценария (и зритель картины) в конце приглашается принять участие в настоящем экзамене по литературе и этот последний тест призван открыть ему главную мысль всего произведения. В романе нет такого эпизода, но он отбрасывает очень яркий свет на его финал, со словами о «спасении в искусстве» и «бессмертии», которыми автор наконец может поделиться со своим героем. «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это – единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита».
253
Набоков В. Лолита. New York: Phaedra, 1967. С. 298.
254
Из предисловия Набокова к сценарию «Лолиты» (Набоков В. Лолита. Сценарий. СПб.: Азбука, 2010. С. 34).
255
«Волшебство чистого случая, иначе говоря, его комбинационное начало, было тем признаком, по которому он, изгнанник и заговорщик, узнавал родственный строй явлений, живших в популярном мире заговорщиками и изгнанниками» (См. в наст. изд.: В. Набоков. Дар. II часть).
256
Набоков В. Примечания к сборнику «Истребление тиранов» / Набоков В. Полное собрание рассказов. СПб., 2016. С. 699.
257
В этом отношении стоит сопоставить пьесу «Смерть» (1923) и «Соглядатая» (1930), «Трагедию господина Морна» (1924) и «Бледный огонь» (1962).
258
Эта редакция легла в основу перевода пьесы на английский язык, вышедшего только в 1966 г. в том же издательстве «Федра», которое вскоре выпустит русскую версию «Лолиты». Изменения отражены в примечаниях к пьесе в подготовленном нами собрании его драматургии: Набоков В. Трагедия господина Морна. Пьесы. Лекции о драме. СПб., 2008. С. 607–625.
259
В эссе «Разрешенный диссонанс», приложенном к его новой редакции перевода «Пнина», Г. А. Барабтарло заметил, что «у Набокова было совершенно особенное понятие о художественном целом, которое существенно отличалось от общепринятого и которое основано на придуманном им методе прокладывания тематических путей сообщения, а не на сюжетном или характерном развитии» (Набоков В. Пнин. СПб., 2015. С. 236).
260
Художественный фильм по этой книге вышел в прокат в том же году, что и «Лолита» Кубрика.
261
«В пути» (1957) Дж. Керуака, «Обед нагишом» (1959) У. Барроуза и т. д. Последний роман вышел в той же парижской «Олимпии», что выпустила «Лолиту» в 1955 г. К этому направлению можно присовокупить (с оговорками) «Ловца» (1951) Сэлинджера и первый том «тетралогии» (1960) Апдайка.
262
Хотя знаменитая мексиканская актриса Долорес дель Рио, исполнившая роль Кармен в фильме 1927 г., могла отчасти повлиять на образ Лолиты.
263
Недавняя книга на эту тему так и называется: «Влияние Лолиты» (Durham G. М. The Lolita Effect: The Media Sexualization of Young Girls and What We Can Do About It. New York et al.: Penguin, 2008).
264
«Кинематограф, как правило, опошляет роман, упрощая и искажая его своей кривой линзой», – заметил Набоков в интервью 1967 г. (цит. по: Nabokov V. The Annotated Lolita / Ed. with preface, introd. and notes by A. Appel, Jr. New York et al.: Penguin Books, 2000. P. 354–355), в сущности, лишь повторив свое убеждение, высказанное еще в 1927 г. в рассказе «Пассажир».
265
Как указал Альфред Аппель, колоритная сцена у бассейна в гл. 32, Ч. I «Ады», с отвратительным молодым мексиканским актером и жиголо увядшей Марины Дурмановой, создана Набоковым по его впечатлениям от коктейльных голливудских вечеринок (Appel A., Jr. Nabokov’s Dark Cinema. New York: Oxford University Press, 1974. P. 236).
266
Сценарий Набокова не был использован и тридцать лет спустя в новой экранизации романа (1997), созданной А. Лайном.
267
Аренский К. Письма в Холливуд. По материалам архива С. Л. Бертенсона. Monterey, Calif., 1968. С. 161–162.
268
Ходасевич В. <Рец.> «Камера обскура» / Ходасевич В. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1996. Т. 2. С. 298–299. Курсив Ходасевича.
269
The New York Public Library / Berg Collection / Nabokov papers / Manuscript box 1.
270
Там же.
271
Набоков В. Лолита. Сценарий. С. 31.
272
Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. Биография. СПб., 2010. С. 554. Как следует из письма Веры Набоковой к сыну от 10 октября 1964 г., Набоковым пришелся по душе и фильм Феллини: «Вчера видели „8 1/2“. Очень понравилось. Если не видел, посмотри» (Houghton Library (Cambridge, Mass.) / Vladimir Nabokov papers. Box 12).
273
Набоков в Калифорнии работал над сценарием столь же увлеченно, как некогда и над самим романом. Об этом Вера Набокова сообщала сыну из Лос-Анджелеса (18 марта 1960 г.): «Я писала тебе, что мы сняли симпатичный дом в каньоне-улице. Сад. Немка-экономка. Вчера нам поставили TV. Мы наняли толстый белый Шевролет. Генератор чирикает. Папа свою „Импалу“ обожает. Two-door[s]. Бирюзовый внутри. Вышел Bend Sinister в Англии. Вышел Speak, Memory в Н.<ью->Й.<орке> Пнин в Германии. Сценарий у папы чудно подвигается, но работает он без конца, встает между 6 1/2 и 7 каждый день» (Houghton Library (Cambridge, Mass.) / Vladimir Nabokov papers. Box 12).
274
Набоков В. Лолита. Сценарий. С. 30.
275
Stam R. Reflexivity in Films and Literature. New York: Columbia University Press, 1992. P. 159–164.
276
Nelson T. A. Kubrick: Inside a Film Artist’s Maze. Bloomington: Indiana University Press, 2000. P. 61; 66.
277
«Хищный нажим темных мужских челюстей» в сцене прощания Гумберта с Лолитой перед ее отъездом в летний лагерь Набоков заменил в сценарии на отеческий поцелуй в лоб.
278
«Кодекс» цит. по: Leff L. J. and Simmons J. L. The Dame in the Kimono: Hollywood, Censorship and the Production Code. Kentucky: The University Press, 2001. P. 286–300.
279
В соответствующем эпизоде сценария Лолита сидит на смятой постели и неряшливо поглощает персик.
280
Leff L. J. and Simmons J. L. The Dame in the Kimono. P. 235.
281
Цит. по: Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. С. 556.
282
«Трагедия трагедии». В кн.: Набоков В. Трагедия господина Морна / Пер. А. Бабикова и С. Ильина. С. 504.
283
Nabokov V. The Soviet Drama (Two Lectures). См. перевод в наст. издании: Сочетание стали и патоки. Владимир Набоков о советской литературе.
284
«Трагедия трагедии» // Набоков В. Трагедия господина Морна. С. 517.
285
Нотабене к лекциям о драме. Цит. по: Бойд Б. Владимир Набоков. Американские годы. С. 40.
286
Записная книжка Набокова за 1969 г., запись от 8 июня (The New York Public Library / Berg Collection / Nabokov papers / Diaries).
287
Как он выразился в беседе с Альфредом Аппелем, 1966 г.: Nabokov V. Strong Opinions. New York: Vintage, 1990. P. 90.
288
Среди обширной набоковианы сценарию как художественному произведению уделено сравнительно немного внимания. Замечания общего характера об отличиях сценария от романа содержатся в остроумной статье Шумана: Shuman S. Lolita: Novel and Screenplay // College Literature. Vol. 5. No. 3 (Fall, 1978). P. 195–204. Несколько важных замечаний можно найти в кратком обзоре Б. Бойда (во втором томе написанной им фундаментальной биографии Набокова), в статье Б. Вайли «Набоков и кинематограф» (в сб. The Cambridge Companion to Nabokov / Ed. by J. W. Connolly. Cambridge University Press: New York et al, 2005, pp. 215–231), в заметке М. Вуда «Vivacious Variants» (в каталоге книг Набокова «Véra’s Butterflies», подготовленном С. Функе и изданном книготорговой компанией Г. Горовица, Нью-Йорк, 1999. Р. 191–196), а также в третьей главе («Cinemizing» as Translation) монографии Ю. Трубихиной: Trubikhina J. The Translator’s Doubts: Vladimir Nabokov and the Ambiguity of Translation. Boston: Academic Studies Press, 2015.
289
Рассматривая влияние биографических обстоятельств и любовных пристрастий Кэрролла и Раскина на «Лолиту», Ольга Воронина, в частности, замечает: «Раскин творит свой собственный „очарованный остров“, где могли бы резвиться его нимфетки, лишенные человеческих качеств и не принадлежащие „пространственному миру единовременных явлений“. <…> Вытесняя чувство греха чувством преклонения и священного трепета <…>, он пишет о своих нимфетках как о существах, которым, чем они прекраснее и чище, тем смерть им более к лицу. Когда очередная его возлюбленная, Роза Ла Туш, моложе его на тридцать лет, умерла от нервной горячки, он вспоминал о ней, как о самой высокой своей любви» (Воронина О. Владимир Набоков и Льюис Кэрролл, или Гумберт Гумберт в Стране чудес // Всемирное слово. 2001. № 14. С. 110).
290
Вот, кстати, отличный пример того, как романный материал обрабатывается в сценарии. Этот «Голос» позаимствован из письма-признания Шарлотты: «<…> когда я спросила Господа Бога, что мне делать, мне было сказано поступить так, как поступаю теперь». В сценарии эти слова из письма Шарлотты экономный Набоков исключил.
291
Набоков В. Лекции по русской литературе / Пер. А. Курт. М., 1996. С. 255–256.
292
В Прологе он говорит, что любил Аннабеллу «нежнее, чем Тристан свою Изольду». В романе этих слов нет.
293
Искажение имен героев на американский манер, по-видимому, призвано у Набокова указать на популярность голливудских экранизаций легенд артуровского цикла в 50-е гг.: «Рыцари Круглого Стола» (1953), «Черный Рыцарь» (1954), «Принц Валеант» (1954) с Джеймсом Мейсоном и др. В романе этот мотив также имеет место: «Тристан и три женских стана в кино» (ч. II, гл. 25).
294
Точнее, «черный рыцарь» – зловещий аноним, не имеющий при себе отличительных геральдических знаков. Майкл Лонг в книге «Марвелл, Набоков: Детство и Аркадия» (1984) заметил, что «Лолита» «воспроизводит общие места рыцарского романа, со всеми его перипетиями: отъезд рыцаря на поиски приключений, обретение, странствия, утрата, преследование и отмщение» (цит. по: Sharpe T. Vladimir Nabokov. L.: Edward Arnold, 1991. P. 57).
295
Письмо М. Чехова к Набокову от 12 декабря 1940 г. Цит. по: Набоков В. Переписка с Михаилом Карповичем (1933–1959). М., 2018. С. 78.
296
Там же.
297
В романе и сценарии приятели Клэра Куильти (Quilty) называют его «Mr. Cue», обыгрывая различные значения этого слова: буква «q», театральная реплика, намек, режиссерское указание и др.
298
«Dolores» и «roses» созвучны и составляют в голове Куильти единый образ. Говоря о слезах, Куильти имеет в виду латинское значение dolores – скорбь, печаль. Здесь он, по-видимому, подразумевает стихи Суинберна «Долорес» (1866), с их навязчивыми образами «розы» и «страдания». Подр. об этом источнике см.: Babikov A. Revising Lolita in the Screenplay // Revising Nabokov Revising. The Proceedings of the International Nabokov Conference / Ed. by M. Numano and T. Wakashima. Kyoto. 2010. P. 25–26.
299
В финале романа Куильти говорит Гумберту: «Une femme est une femme, mais un Caporal est une cigarette» («Женщина – это женщина, но Капрал – это сорт папиросы»). В сценарии этот мотив проведен намного тоньше.
300
Рое Edgar А. Drake-Halleck Review, 1836. Цит. по: A Companion to Poe Studies / Ed. by Eric W. Carlson. Westport: Greenwood Press, 1996. P. 281.