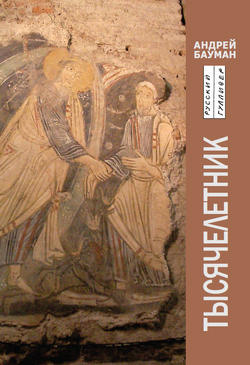Читать книгу Тысячелетник - Андрей Бауман - Страница 3
Становящийся словом
ОглавлениеПоэзия Андрея Баумана – интеллектуально-лингвистического толка. Это значит, что его поэтическое размышление неотрывно от языковой интуиции, от словотворчества. В его стихах нет открытого лирического обращения вроде «Я вас любил, любовь еще, быть может…». Его путь лежит через Хлебникова к Державину, Ломоносову и дальше – к старославянским и древнегреческим образцам. Само название стихотворения «Слово на обновление естеств» переносит нас – через русскую поэзию XVIII века – через «Слово на обновление Десятинной церкви» XI века – в век IV, к Григорию Богослову и его известной в православной среде фразе «Обновляются естества, и Бог делается человеком». При этом лингвистическая рефлексия возвращает нас в современность. Бог – Пастырь, говорит поэт, но лишь до перемены времен, пока
человек человеку – в овечьей шкуре,
с овчей судьбой на всех,
с лица неовчим выраженьем.
Возвышенная ода приправлена словообразовательным юмором, аллюзией на классические строки Баратынского, и концовка ее, когда «обновление естеств» произошло, написана в том же ключе:
Урожденные в ягнячестве —
перетворены
из праха в празднество:
боги впервые
и впервые, в отваге естества, люди.
Знание трудов христианских богословов, греческой патристики замечательно обогащает мысль и поэтику А. Баумана. Так, в вышеприведенном названии обыграна двойственность понятия «обновление»: «обновление» как «освящение» (например, освящение церкви, в частности – той же Десятинной) в церковнославянском и «обновление» в современном смысле.
Тексты насыщены «гомеровскими эпитетами»: «кровообращенная речь», «плодоносное тело», «животворная слава» и т. д. и т. п. Нет числа сложным прилагательным в стихах А. Баумана, и это тоже роднит его поэзию с русскими религиозными текстами, с книжно-церковной литературой, которой свойственна торжественная интонация, а не только с эпическим наследием греков.
Почему так, а не иначе? Читатель найдет ответ в стихах, например в стихотворении «Поэзия», где неожиданна уже первая строка: «Становящийся словом – обнажается от себя». Не «до себя», а «от себя». Здесь скрещение смыслов: обнажается, но и отталкивается, отчуждается от себя, перестает быть собой (у Григория Богослова: «Видите благодать дня, видите силу таинства: не восторглись ли вы от земли? Не явно ли вознеслись уже горе́, подъемлемые моим словом и тайноводством?» – читатель обратит внимание на аналогичную конструкцию и двойственное значение этого «восторглись от…»); и потому мы никогда не станем свидетелями «обнажения» как такового: поэт слишком целомудрен, чтобы остаться на уровне открытого лирического высказывания. Чуть дальше есть четкая формулировка, отвечающая на вопрос, почему он избрал именно такие средства выражения. Потому что
Первое в нем – прославление,
второе в нем – оплакивание.
Всё в нем – пересозидание,
и всё в нем – сберегание.
Если так, то средства выражения выбраны безукоризненно.
Выше я указал на использование сложных прилагательных (есть, кстати, и сложные существительные: «небоземля», «позвоночникодрево» и др.). И это не стилистическая прихоть. Андрей Бауман хочет сказать ВСЁ. Он хочет, чтобы в каждом атоме стихотворения заключался весь мир. Сложное слово андрогинно, оно пребывает в попытке объединить в себе разные начала и стать совершенным:
андрогин:
утвержденный в середине моря и суши,
всеприимный,
простерший кресторадостно руки объятий, —
бог, становящийся всеми,
сорадостный и
сострадающий всем.
Желание сказать ВСЁ, конечно, неосуществимо по определению, но именно поэтому оно заставляет поэта всякий раз менять средства высказывания на чуть ли не диаметрально противоположные, поскольку всякий раз, даже когда написанное представляется точным и соответствующим сути, строю, внутренней форме предмета, обнаруживается, что какие-то очень важные вещи (возможно, самые важные) остались непроизнесенными. Отсюда напряженные попытки дать сказаться совершенно разным вещам, требующим, разумеется, кардинально различных способов говорения.
В связи с этим особенно, может быть, значимы стихи социально-исторического характера, где звучит тема войны и концлагерей («Солдатские кладбища», «Братья», «“Дано мне тело…”», «Россия и после», «Восточный фронт» и др.), тема судьбы России и ее земли, которая с каждой отнятой жизнью становится «старей и горше»:
ладонями своих монастырей
незрячее ощупывая небо,
глотающее лагерную пыль,
на огненных настоянную травах:
одна на всех – сестра и поводырь,
покоящая правых и неправых.
Как читатель я благодарен поэту Андрею Бауману за его верность традиции, в том числе традиции гражданской поэзии, за содержательное новаторство, за произрастающую плотность слова, вьющегося подобно дереву (стихотворение «Дерево») – с его «достатком световым», «кроной корневой», «солнцетоком», за «двоякодышащее слово».
Андрей Бауман по образованию философ, и стихи вроде процитированного «Андрогина» отсылают нас не только к религиозной мифологии и каббалистической трактовке первых глав Библии, но и к Платону с его «Пиром» (ср. стихотворение «Пир богов»), где, кстати, рассказывается миф об андрогинах.
Я мог бы привести и другие примеры, иллюстрирующие то главное, чем движима поэзия Андрея Баумана, но время предоставить слово самому поэту. Могу лишь пожелать читателю этих стихов испытать то же чувство, что испытал Алкивиад, внимая Сократу: «Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее».
Владимир Гандельсман