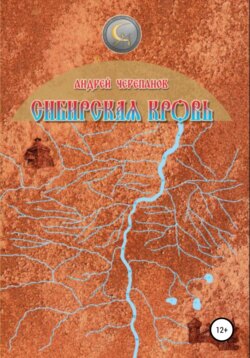Читать книгу Сибирская кровь - Андрей Черепанов - Страница 4
Глава 2
Семь верхнеленских церквей
ОглавлениеЕще в начале исследования мне стало понятным, что в тот период, за который сохранились архивы, все мои верхоленские предки Черепановы были прихожанами одной единственной церкви – Верхоленской Воскресенской, впоследствии преобразованной в собор. Поэтому для отображения непосредственно моей фамильной ветви в виде родословного древа были вполне достаточны только ее исповедные росписи и метрики. И именно это церковное учреждение в моем исследовании занимает главенствующую роль как приходская церковь столичного острога, затем – города и как содержащее основной массив информации.
Однако в ходе своей работы я многократно усложнил поставленную перед собой задачу, чтобы так же многократно упростить ее для каждого из своих последователей. Эта задача – составление полного перечня метрических записей верхнеленских церквей о Черепановых, всех, что найдены за XVIIIXX века, а также оформление их общего родословного древа, произрастающего с древности. Для чего мне и понадобилось изучение архивов еще шести церквей Верхоленского уезда Иркутской губернии. Причем, как выяснилось, их роль сразу после XVIII века в сохранении сведений о жизни Черепановых была очень высока. Четыре из них, как и Верхоленская Воскресенская церковь, о которой я расскажу позднее, известны еще с XVII века – первого десятилетия XVIII века.
Ближайшая к Верхоленску – Николаевская церковь (с 1806 года – Вознесенская, или Церковь вознесения Господня), вероятно, построенная в начале XVIII века, а перестроенная в 1784 году «тщением приходских людей»5, находилась в Качуге[32]. В 1925 году решением Иркутского губисполкома она была объявлена памятником архитектуры и вскоре после того снесена со ссылкой на отсутствие средств для реставрации. Сам же Качуг был основан в 1686 году казаками в трех десятках верст юго-восточнее Верхоленска, вверх по течению реки Лены. И уже через него пролегали пути к другим церквям, причем как по воде, так и посуху.
Если пока не брать во внимание Верхоленскую Воскресенскую церковь, то самая древняя из верхнеленских церквей – Введенская (Церковь введения во Храм Пресвятой Богородицы) в Манзурке, что основана русскими поселенцами в 1648 году на одноименной реке[33] – левом притоке Лены – примерно в шестидесяти верстах к югу от будущего Качуга. Находясь на Якутском тракте почти на сотню верст ближе к Иркутску, чем Верхоленск, в XVIII веке Манзурка была крупным волостным[34] центром Верхоленского уезда. Деревянная Введенская церковь перестраивалась дважды – в 1765 и 1824 годах (освящена через десять лет) – и «дожила» до 1930 года, когда ее закрыли за неуплату налогов и устроили в ней зернохранилище.
Следующая по старшинству – Покровская церковь (Церковь покрова Пресвятой Богородицы) в Бирюльке, на чью пашню в 1668 году были расселены шесть семей ссыльных смоленских стрельцов[35] и служащих Вознесенского девичьего монастыря, а также девяти семей вольных крестьян (ссыльные поселились на территории будущего поселения Бирюльки, шестеро вольных крестьян – в будущей Анге, еще трое – в будущей деревне Юшиной)7.
Бирюлька расположена в тридцати верстах к юго-востоку от Качуга на самой реке Лене при впадении в нее реки по имени Бирюлька[36]. Покровская церковь, построенная еще до 1689 года и сгоревшая, вновь «построена в 1790 году тщением прихожан», обшита в 1860 и 1867 годах тесом8 и сохранилась до 1930-х годов. Рядом с ней в 1812 году соорудили еще и каменную церковь под тем же названием, но она стала разрушаться из-за некачественного исполнения и, по специальному указу Иркутской духовной консистории 1860 года, была разобрана, возведенная же на ее месте деревянная церковь в 1883 году сгорела (согласно же клиринговой ведомости 1843 года, каменная церковь была построена без иконостаса в десяти саженях перед деревянной в 1812 году, «по непрочности содержания в 1839 году определена к ломке, по нерадению о сем прихожан и по нерадению самих сельских начальников остается по сие время нераскладною и грозит падением»9). Следующее здание церкви, освященное в 1910 году, а в 1932 году закрытое и перенесенное по решению Качугского райисполкома 1937 года в село Ангу для организации в нем клуба, также вскоре было уничтожено огнем.
И, наконец, – Ильинская церковь (Церковь пророка Илии), построенная на пожалованных в 1682 году «на пропитание Киренского монастыря» пахотных и сенокосных землях у реки Анги[37], в Ангинской заимке, что примерно в двадцати верстах на восток от Качуга. Первое упоминание о ней датировано 1706 годом. Клиринговые ведомости 1843 и 1867 годов сообщают также, что, то ли «тщением крестьян Воробьева и Софонова», то ли «усердием жителей Верхоленскаго округа, Карамского селения крестьян Ольхоновых»10, здесь была в 1803 году возведена и в 1804 году освящена каменная Ильинская церковь[38]. Постановлением Восточно-Сибирского краевого исполнительного комитета 1933 года ее разобрали для строительства ремонтных мастерских.
Остальные две церкви моего исследования относительно молоды и основывались они с главной целью – разделить разросшиеся приходы старых церквей и тем самым понизить их загрузку. Одна из них – построенная в 1860 году «тщением крестьян Верхоленскаго округа, села Белоусовского Николаем и Васильем Яковлевых Белоусовых» и освященная в том же году теплая деревянная Иннокентиевская церковь11 (Церковь святого Иннокентия, епископа Иркутского) в Белоусово, что в десяти верстах на юго-запад от Верхоленска, на реке Куленге[39]. К ней с 1 июня 1861 года отошло ведение метрических книг по православным жителям куленгских поселений на всем протяжении от Толмачево до Житово, прежде входивших в приход Верхоленской Воскресенской церкви[40]. Вторая – освященная в 1897 году Казанская церковь (церковь Казанской иконы Божией Матери) в Бутаково, что в десяти верстах на север от Анги, на реке Малая Анга13. Она стала с 20-х чисел мая 1899 года вести метрические книги по православным жителям нескольких поселений, ранее относившихся к Ангинской Ильинской церкви, крупнейшие из которых – Бутаково и Костромитино.
Надо сказать еще и о Седовской Богородице-Казанской церкви, к которой перешла роль ведения метрических записей по части манзурского прихода – главным образом Карлукского, Копыловского, Самодуровского и Седовского селений, расположенных от Манзурки выше по течению реки. И, как я установил, такой переход состоялся в 1886 году, ведь в предыдущий период метрические книги Манзурской Введенской церкви были полны записями о прихожанах из вышеназванных поселений, а с 1886 года таковых в ней почти не стало, и общее число ее записей упало чуть ли не в два раза.
Седовская Богородице-Казанская церковь располагалась довольно далеко от Верхоленска, и, изучив ее сохранившиеся метрические книги14 (в них содержатся записи о рождениях еще с 1866 года, но те записи вплоть до 1885 года – почти полная компиляция метрик Манзурской Введенской церкви[41]), я не нашел в них упоминаний о Черепановых.
32
По-эвенкийски, кочо – «излучина», «изгиб реки». И, действительно, река Лена в районе Качуга не только имеет множество излучин, но и делает изгиб, поворот с западного направления на северное. Качуг прежде именовался Качиковым, Качигом или Качинской пристанью. Согласно ответам на вопросы анкеты, составленным в 1730–1740-х годах администрацией Верхоленского дистрикта, «прозвание оной деревне дано по сухому ручью, который называется Качиком»6.
33
По-бурятски, название реки было Баянзурхэн, что означает «богатое сердце», сердечная. Впоследствии труднопроизносимое название приняло форму Банзурка (Банзюрка) и, наконец, – Манзурка.
34
Волость – это территориальный сельский округ в составе уезда.
35
В ходе исследования я узнал, что один из них был моим восьмижды прадедом (об этом сказано в разделе «Усовы. Смоленская история» главы 10).
36
По-эвенкийски, «бира» – река. Бирюлька – ее русское уменьшительное название.
37
По-эвенкийски и по-бурятски, «анга» – пасть животного, рот, а в переносном смысле – ущелье, расселина, промоина.
38
Значительные суммы в пользу церкви жертвовал Иван Попов (Вениаминов), родившийся в Анге в 1797 г. и ставший в 1840 г. под именем Иннокентия первым православным епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, а в 1868 г. – митрополитом Московским и Коломенским. Скончавшийся в 1879 г. митрополит Иннокентий погребен в Троице-Сергиевой лавре, причислен к лику святых.
39
По-эвенкийски, «кулинга» – змеиный, что подтверждается наличием там змей.
40
Метрические записи Белоусовской Иннокентиевской церкви за июнь–декабрь 1861 г. приведены в одной книге с Верхоленской Воскресенской церковью12.
41
Об отличии рассказано в разделе «Черепановские из-под Манзурки» главы 6.