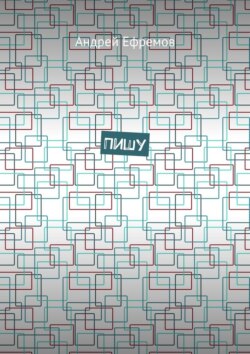Читать книгу Пишу - Андрей Ефремов - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Наблюдательность
ОглавлениеЯ по жизни радиотехник, и милиционер, Благодарю Бога – ушел на пенсию не из полиции, а из милиции. В пенсионном удостоверении спецзвание обозначено «капитан милиции». Ветеран боевых действий. В младенчестве так получилось, что потерял мать, но под старость ее нашел. В школьном возрасте одно время мечтал стать лесником – хотел быть подальше от людей, сейчас понимаю – сказывалась некоторая доля аутизма; затем, помню, загорелся стать разведчиком или сотрудником уголовного розыска – это же круто!
А в раннем детстве была мечта стать радиотелемастером! Это на меня так произвел впечатление мастер, вызванный отцом, после того как я, наверное, в пятилетнем возрасте умудрился сломать сразу три вещи: абонентский громкоговоритель, карманный приемник, и радиолу. Я часто дома на весь день оставался один, бубнило радио – и там я искал «маленьких человечков», и поэтому меня часто било током.
В школе легко давались литература и русский язык, много запоем читал – это мне очень нравилось. И даже подумывал – а не написать ли и мне «нетленку»! В подсознании также многие десятилетия теплилась мысль найти родную мать.
И вот результат – все мечты в той или иной степени воплотились в жизнь. По поводу лесника разве что не вышло, тем не менее, пока здоровье имелось – был заядлым охотником: с десяти лет в одиночестве бродил с ружьем по тайге, по озерам. Хорошо ориентировался в тайге. Часто пугал приехавших на лето городских ребят что мы, якобы, заблудились в тайге – они не на шутку начинали волноваться. Мне было смешно. Сейчас, на пенсии, с самой младшей внучкой часто ездим в тайгу. Ей нравится.
Надо признаться, в жизни был еще вариант – тюрьма или зона. Бог миловал. Но память рисует такие картинки и пути, от которых иной раз становится не по себе. Старшее поколение пацанов в моем детстве было сплошь криминализовано, и это налагало отпечаток и на нас, малышей. В школе никто ни к кому не обращался по имени, только кличка. Малышня полагала – так и должно быть. Самые безобидные клички – производные от фамилий. Отсюда, собственно, и произошел мой псевдоним – Брэм: приклеившаяся по жизни детская кличка. Доходило до того, что часто не все понимали о ком идет речь, когда в компании называли мою фамилию и имя. И так часто происходит до сих пор.
В далеком детстве в нашем доме и во дворе было много ребятни, конечно же, все дружили. В соседнем подъезде проживала большая семья: мой одноклассник, его старший брат, и младшая сестренка. Отец каменщик, и мать уборщица. Сейчас я понимаю, что это была неблагополучная семья. Я нередко бывал у них, они у меня.
Гуляли большой компанией по городу, ходили в кино. Нас, дворовых, собиралось человек 10—15. И часто, выбираясь из толпы взрослых людей, например, в магазине или на проходе контроля в кинотеатре, старший являл на свет большой бумажник, небрежно откидывал в сторону паспорт, другие документы, и пустой кошелек. С деньгами же мы шли в магазин радоваться детским радостям. Как-то незаметно эта семья переехала на другое место жительства, и мы с ними потеряли связь. В подростковом возрасте начались уже другие выкрутасы.
Поначалу статьи и рассказы писал даже по ночам, дня не хватало. Это было нелегко, зато имелось огромное желание. Например, черновой вариант рассказа писал ночью за четыре часа, размером с газетную полосу. Затем идут недели и месяцы кропотливого труда: вычитка, корректировка, личная редактура. Надо признать – в то время я таких терминов даже не знал, просто писал, добавлял в готовый текст мысли.
Где-то вычитал: телеграфный столб – это хорошо отредактированное дерево. Но на самом деле столб – это плохо отредактированное дерево.
Замечательную помощь сослужил богатый опыт телемастера и милиционера. Как при написании, так и при доработке текста. У меня же нет специального литературного или журналистского образования.
Наблюдательность – тоже «двигатель». Нужно учиться видеть мелкое, мельчайшее. И надо научиться самого себя сдерживать: сам автор попросту не видит своих ошибок, у него две мысли: «это мой шедевр, и – я гений»! И эта червоточина мешает развиться самокритике.
В практике выезжающих в дальние командировки телемастеров есть понятие – «руки сами делают». В свою бытность в какой-нибудь деревушке по прибытии телемастера по окрестностям разносилась благая весть: «несите телевизоры и приемники в сельсовет, мастер приехал»!
И пошел конвейер. Мастер входит в стрессовое состояние, открывается второе дыхание – «руки сами делают»! Головой, кажется, не думает ни о чем. Алгоритм такой: открыл заднюю крышку, включил, замерил, выключил, выпаял несправные детали, припаял новые, нашел микротрещину – пропаял! Включил, проверил – работает, выключил, закрыл крышку. Готово! Следующий!.. Это результат огромного опыта: ошибок, большой практики, и даже интуиции.
Опытный сотрудник уголовного розыска – лично за этим неоднократно наблюдал, хорошо зная свой участок и людей, может, при чтении утренней сводки о преступлениях, не выходя из кабинета дать указание помощникам выехать по определенному адресу и задержать гражданина – своего «подопечного» – ранее судимого N. Это опять же опыт, большая практика, и интуиция.
Вывод: как можно больше читайте чужие произведения, пишите рецензии, получайте рецензии, принимайте критику. Со временем приходит опыт чтения по диагонали без потери качества усваивания текста. Учитесь находить чужие ошибки, писать критические заметки и обзоры конкурсных работ – это прекрасная практика и опыт, это помогает в писательской работе.
Со временем все это, возможно, и надоест. Но ведь в любой момент можно прекратить писать конкурсные рецензии. Писательский опыт сохранится, и эти навыки понадобятся для написания рецензии знакомому автору, товарищу.
М. М. Пришвин по этому поводу выразил такие мысли: «Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что, не мудрствуя лукаво, сердцем слушая время, в тесном общении с простым человеком и с томиком Пушкина в кармане можно сделаться отличным писателем».
Художник создает картины мазками, кистью. Мазок в живописи – это один из прекрасных примеров того, как небольшое техническое движение рукой влияет на произведение художника и формирует целые стили. Это маленькая часть работы мастера, его можно сравнить с кирпичиком, из которого собирается целый дом, а из мазков кистью получаются настоящие произведения искусства. Так и отдельные слова, составленные писателем в предложения и фразы создают рассказы и повести.
У нас был сосед по дому – художник, и один раз он мне предложил на своей картине внести лепту: дорисовать скалу: «Вот, Андрей, это скала, кистью делаешь такие мазки серыми и коричневыми оттенками вот в этом пределе, это будут камни». И я эту скалу дорисовал.
Хорошо бывает перед отправкой в редакцию поместить «нетленку» на литературный сайт. Но в последние годы я делаю наоборот – помещаю работы для сохранения на сайт уже после публикации, – чтобы лишний раз не раздражать редакторов изданий: они часто перед публикацией проверяют – не «засвечен» ли где-нибудь текст. Либо помещаю мелкие черновики. Зная, что твою работу уже читают, проявляют интерес, – это подстегивает, и текст уже выглядит иначе, и легче найти свои ошибки – как грамматические, так и смысловые. А утром приятно прочесть комментарии, конечно, если они будут. Если отзывы есть, нужно трезво распознать – где язва, где критика, и где лесть. Критику отделяем от дружественного или высокомерного «похлопывания по плечу», и плотно начинаем с ней работать. Комментаторы могут указать на грамматические, смысловые, исторические, и другие ошибки. И за это их нужно только благодарить, не надо ничего доказывать, и, тем более, оправдываться.
Автор буквально живет и думает о своей «нетленке» всё время пока пишет. Это время я называю вдохновенным: вдох – вздох – жизнь. Даже, наверное, испытывает покалывание в кончиках пальцев, будто высокочастотным током пробивает, или, наоборот – испускаются токи. Потихоньку оживляет персонажи, «раскрашивает» место действия.
Есть понятие графомания. С этим нужно разобраться самостоятельно. Графомания – это болезнь: постоянное назойливое желание писать что угодно, как угодно, и где угодно.
Если автор полностью результатом своей работы не удовлетворён – это правильное и вполне здоровое состояние. Когда нет желания писать и дорабатывать свой текст – это тоже, считаю, правильное состояние. После нескольких дней отдыха, можно работу возобновить, и желание писать появится.
Часто бывает так, что даже после публикации работ в журналах, автор дорабатывает свой текст. Торопиться отправлять работу в редакцию не следует. Хорошо бы обратить внимание на двусмысленности в тексте, и опередить вопросы читателя их развернутой аргументацией. «Шлифануть» текст логичностью и ясностью изложения мысли. А ясность изложения мысли – считаю, нет ничего проще – это банальная устная речь, грамотно изложенная на бумаге – изложение.
Ясность мысли нарабатывается практикой. Запишите повествование интересного рассказчика на диктофон. Затем дословно перенесите на бумагу (монитор). Уберите все лишнее, добавьте свои комментарии – вот и текст и ясность мысли. Но этому тоже нужно учиться, легко ничто не дается.
И преследовать людей, даже друзей и хороших знакомых, с требованием прочитать какой-либо свой рассказ тоже не следует. Никто из них правильную оценку «творению» не даст. А маститые писатели тем более от такой назойливости незнакомых авторов попросту отмахнутся. Надо принять этот факт «на веру». Но есть исключения, но об этом позже.
Недавно в госпитале МВД разговорился с одним пожилым мужчиной, в возрасте, наверное, за восемьдесят. Начал он со своих болячек, и со «скорой помощи»: как врачи его «возвращали с того света»: – «Ты знаешь, помирать не страшно!.. Вот вижу – выхожу из своего лежащего на кровати тела, и поднимаюсь наверх… Легко так, спокойно… И вдруг обратно в тело влетаю, и вижу как врач весь взмыленный ругается! Оказывается, я умер, остановка сердца произошла, а он меня дефибриллятором к жизни вернул»!
Интересный факт меня очень заинтересовал. Затем он стал вспоминать про свою службу в системе УИН (Управление исполнения наказания), про своих подопечных преступников, скверных парней, про некоего очень интеллигентного убийцу, который в 50-х годах прошлого века из пистолета прикончил троих людей – его приговорили к двадцати пяти годам лишения свободы. Про то, как он про этого убийцу диссертацию написал…
Проявив наблюдательность, я заострил внимание на слове «диссертация»: ведь ее пишут, а затем еще и защищают в научных кругах для того, чтобы получить ученую степень. Попросил с этого места поподробнее. Но рассказчик, тщательно избегая слова «институт», особо отметил что «диссертацию писал для себя». Слово за слово, и, в итоге, возбудившись, он изрек: «Да ты, парень, далек от всего этого»! Я полностью с этим согласился, и на этом мы разговор закончили, и интерес к собеседнику у меня окончательно испарился. Я не журналист, не графоман, и ничего с этого не потерял.
С позиции журналиста я допустил ошибку: не стал внимательно выслушивать собеседника, проявив нетерпение, прервал его речь, встрял в спор. А с позиции писателя, думаю, поступил правильно: не стал тратить время на человека с буйной, мягко выражаясь, фантазией, и, вследствие этого ставшего мне неприятным.
До сих пор не пойму – что это было: то ли бахвальство, то ли банальный треп. Если бы он не упомянул в своем повествовании слово «диссертация», и продолжил спокойно делиться воспоминаниями далее, возможно в какой-нибудь газете или в профильном журнале появилась статья про «героя былых времен». Но от статьи несло бы некоторой долей лжи. Да, бывает и такое.
Итак, терпение – тоже «двигатель». Всегда помните крылатую фразу товарища Саах… «…ах, какого товарища!»: «Торопиться не надо, торопиться не надо!». Нередко именно терпение спасало меня от неминуемого позора. Часто посещало желание послать свой новоиспеченный «шедевр» в какое-нибудь издательство, но при очередной вычитке находил множество ляпов. Просто откладывал рукопись, отдыхал некоторое время, затем со свежей головой приступал к очередным вычиткам.
Интересные и забавные мысли приходят на ум, когда я еду в машине, в автобусе, нахожусь в каких-то местах, в лесу, среди людей, и даже во снах. И чтобы не потерять эти идеи и сюжеты, я их просто записываю на клочках бумаги. Так и со словами: к примеру, один повар на кухне в кафе однажды при мне произнес слово «интегриенты» – подразумевая ингредиенты. Я долго смеялся, и вставил это слово в книге в уста одного омоновца. Записать и запомнить интересные слова – это должно быть правилом: они легко улетучиваются из памяти.
У любого рассказчика всегда есть свои личные фразы, и их нужно замечать. Один мужчина при беседе со мной часто приговаривал: «Ну, все мы когда-то были пионерами»… – Очень, считаю, оригинальная фраза. Другой часто бросал фразу: «тоси-боси». Оказалось – это производное от «то-се».
Да, хорошие мысли, слова, и идеи очень полезно изложить несколькими ключевыми словами на бумаге. Это осязаемая мысль, видимая, натуральная. Даже написанная на невзрачном клочке бумаги: на кассовом чеке, на оторванном газетном уголке, хоть на чем. Нащупал этот клочок в кармане брюк, увидел в бардачке машины, – вспомнил, – какие-нибудь мысли и приходят. Конечно, у всех по разному. И у меня есть представительские блокноты, но я их с собой не ношу, как правило. И здесь парадокс: свои записи в таких блокнотах я иногда прочитываю, но эти мысли не используются годами. Возможно оттого, что блокноты представительские, безжизненные.
Почерк у меня неважный, поэтому часто приходится гадать – что же это я сам себе написал? Но пока несколько секунд «дешифрую», появляется рой некоторых идей.
Благодаря этим клочкам бумаги и блокнотам где-то в отдельном шкафчике памяти создается некий чемоданчик с различными идеями и узелками, которые могут отлеживаться месяцами и годами. Но в какой-то вызревший момент выстреливают статьей или рассказом.
Говорят, математик и детский писатель Льюис Кэролл, проезжая по России, записал чудное русское слово «защищающихся» (thоsе whо рrоtесt thеmsеlvеs), как он пометил в дневнике. Вид этого слова вызывает восторг: zаshtshееshtshауоуshtshееkhsуа. Ни один англоязычный человек это слово произнести не в состоянии.
Был свидетелем как русская женщина не могла произнести вполне легко произносимое слово «сбербанковская карта». Язык почему-то заплетался: «сбер… сбербан… сбербангсковая»… Я произнес это слово в кассе за нее: «сбербанковская». Присутствующие засмеялись. Но я этот эпизод взял на заметку.
Еще одна женщина спрашивала в аптеке какое-нибудь «антибарицидное» средство – подразумевая антибактерицидное. При всем желании найти какое-нибудь мудреное название лекарства, моей фантазии на такое бы не хватило. Нужно приучить себя такие слова немедленно записывать: забыть очень легко, как сон.
Китаец, продавец автозапчастей, втолковывал мне название одного магазина в Якутске – «Колыман». Я долго не мог понять о каком магазине речь. Не помню я такого магазина. Есть женское имя Колымана, есть река Колыма, мужского имени Колыман не существует. Несколько раз у него уточнял название: – «Колыман», и точка! Посетовал его соседу по магазину армянину, что не знаю такого магазина. Он твердо ответил – «Кармен». Да, есть такой магазин запчастей.
Вот еще услышанная мной смачная фраза: «Страх меня буяет». Я несколько раз со смехом переспросил женщину – именно «буяет»? «Да, именно буяет». Это слово «буяет» запомнил и записал на клочке бумаги, применю.
У меня был хороший товарищ по имени Филипп, он рано ушел в вечность. Парень был большого роста, красавчик, намешано две крови – якут и эвенк. Прекрасно говорил по русски. В его обиходе часто мелькало слово «ижо». Я не задумывался что это за слово, так как мне было понятно, что это междометие «еще» вероятно на разговорном старорусском. Похоже, Филипп перенял слово в далеком детстве от своих бабок и дедов. Иногда я его передразнивал: «Ижо»? Он иронии не понимал и совершенно серьезно отвечал: «Ну, да, ижо».
В далеком детстве, помню, взрослые часто вместо фразы «пойдем есть», говорили: «пошли исти», «исти будешь?».
Нужно быть очень внимательным при редактировании своего теста. Чуть ниже у меня была написана фраза: «огонь из камелька плясал на стенах жилища». Ничего особенного я в ней не видел. Но однажды задумался – ведь огонь на стенах жилища – это пожар! И изменил: «отблеск огня из камелька»… Совсем другое дело.
Имея хорошую наблюдательность, можно подмечать интересные фразы в разговоре с людьми. Это качество пишущего человека – охота за смачными словами и фразами.
Есть что-то характерное, особенное в словах и фразах, присущее только людям, проживающим в какой-либо местности или городе. Можно проследить что-то особенное – характерное для данного населения, даже вплоть до походки, моды. И вставить такие интересные моменты в рассказы.
Бывая в других городах можно услышать интересные слова. Например, в Ростове я часто в разговорной речи слышал простое и красивое слово «глянь» (посмотри), в Якутии оно не применяется. Но оно до такой степени укоренилось в моем сознании и личном лексиконе, что часто непроизвольно уже сорок лет применяю это слово не только в речи, но и в своих рассказах.
Гости Якутска сразу отмечают распространенное: «Э-э, да»?
А в Амурске брат посетовал на элемент из таблицы Менделеева «дейтерий». Дело было так: решил я разогреть чайник, запалил газ и поставил чайник на огонь. Брат встрепенулся: «Ты что делаешь, так же нельзя»! – вылил из чайника воду, налил из крана свежую, и затем поставил на огонь.
По его версии в остывшей воде при повторном кипячении накапливается радиоактивный дейтерий. Оказывается, в Амурске в это свято верят. С этого момента я стал ему предлагать: «Миша, а не испить ли нам свеженького дейтерия»?
Товарищ из Улан-Удэ часто приезжает. После его побывки я часто ругаюсь в течение пары дней – когда выливаю оставшееся после него молоко из тетрапакета на пол и на себя. У него привычка разрезать углы пакета с молоком с двух сторон – якобы это очень удобно, у них так принято. У нас же так не принято – режем один угол. Привычка – чаще всего дело неискоренимое.
В Якутии коренной русский никогда не скажет слово «коровник» или «свинарник», он эти слова вполне естественно обобщит якутским: «хотон». Вероятно оказавшись в Брянске он будет долго размышлять как назвать «хотон» по русски.
Есть много якутских слов, гармонично вошедших в лексикон русских, и они этого не замечают. И наоборот – в современном якутском языке очень много русских слов. Приезжим людям это заметно сразу. Например, когда городской якут разговаривает по телефону, как ему кажется по якутски, он одновременно с якутскими через слово вставляет русские слова и даже фразы. Бывает, сам того не замечая, переходит на русский язык, и обратно на якутский. Ну, и русский мат бывает, проскальзывает – это само-собой. Это уже зависит от культуры человека. Коренной русский даже без перевода понимает, о чем идет речь. То же самое я нередко наблюдал в республиках Северного Кавказа: сквозь гортанную речь целые предложения на русском языке звучат.
Когда в русской семье папа в наказание шлепает провинившегося ребенка по ягодным местам, малыш кричит вместо «Ой! Ой!» – вполне по якутски (кстати, по японски в точности так же): «Ая! Ая»!
В Кизляре, в начале тысячелетия, водители ВАЗов – «Жигулей» на стоянках никогда не запирали двери машин. И в Дагестане и в Чечне чаще всего у водительских дверей были сломаны внутренние ручки, они их со своих мест открывали наружными ручками, через окно.
Служба в милиции и служебно-боевые командировки в горячие точки тоже кладезь в этом отношении – каких только заковыристых выражений не услышишь, как от своих, так и от чужих. И в отношении критики: когда начальник устраивает разнос, а ты стоишь по стойке «смирно» – ведь это тоже своеобразная критика. Да, стоишь и думаешь: «Учишь меня работать так, как работал бы сам, если бы еще знал, как и умел».
Говорят, один немецкий переводчик бахвалился, что в совершенстве знает русский язык, переведёт любую фразу. Ему и предложили перевести на немецкий: «Косил косой косой косой».
Есть синонимы слова косой (пьяный) – синий, зеленый, бухой, на рогах, готов, загруженный, накачанный, в дымину, под банкой… И т. п. Итого шестьдесят восемь слов можно набрать. Русский человек поймет, иностранцу нужно будет долго объяснять. В Комсомольске-на-Амуре видел вывеску заведения с названием «В дым» – коротко и ясно. Позже в Якутске появилось заведение с многозначащим названием «На рогах». Но оно просуществовало недолго.
В любом городе есть своя изюминка. Душа города – она во дворах находится, – где мусорные баки и гаражи, скособоченные старые домишки, залитые дождями дороги, неказистые магазинчики, лавочки. Это как с виду красивая женщина, но вот душа – она разная. Во всех городах, где я был это очень заметно. Ростов понравился в этом отношении, израненный войной и блокадой Питер. Евпатория, – вроде красивый и своеобразный центр, а сойдешь с центральной улицы на параллельную, сразу видно, где и как люди живут, и заботу властей о людях. Иркутск – очень интересен старыми домами, за которыми тщательно ухаживают. Прибалтийские города – даже в советское время красота и вылизанность во всех отношениях. Северокавказские города за собой ухаживают особым образом. А Якутск – здесь разнообразие, все районы города абсолютно разные, но во всех дворах есть что-то общее.
Полезные наблюдения из жизни, бытовые мелочи, которые писателю необходимо запоминать. К примеру, однажды, в горах Чечни, нас, группу из пяти славных ребят, послали в секрет у горной дороги – вылавливать плохих парней. Время обеда, трое остались в секрете, а мы развели в незаметном замаскированном месте костер. Моим напарником оказался этакий форматный квадратный малый, опытный боец, из спортсменов, намного моложе меня. Он взял банку тушенки, разворошил угли, аккуратно поставил банку в костер. А надо отметить – в то время я его очень уважал. Он казался рассудительным, спокойным, иногда умел помолчать, – и из-за этого казался не просто умным, а очень умным, и даже мудрым. Говорю:
– Банку надо бы открыть, – и протягиваю ему свой кинжал.
– Чё?… – по бровям прошла мудрая хмурь: – Не, не надо…
– Лопнет же.
– Не, – отвечает со знанием дела: – не лопнет.
И так он уверенно это сказал, что я действительно в это поверил! Думаю – у парня опыт, наверное, богатый, в этом деле, разогреет банку чуток, и вскроет. Но на всякий случай отодвинулся подальше от костра, и от мыслей об элементарных законах физики. Скинул разгрузку, прилег на теплую землю, жду, когда банка согреется.
Из состояния дремы меня вывел звук громко лопнувшей консервы и истошный крик с чередой русских народных слов. Горячий жир из банки все-таки попал на парня! Я тактично промолчал, и, с целью его не смущать, всем своим видом показал, что ничего не заметил.
Заурядный случай, ничего особенного, но ведь этот эпизод вполне можно вставить в рассказ о боевых буднях спецподразделений. Можно рассказать в веселой компании ветеранов войны, посмеяться, и тут же забыть в череде других баек. Обычно так и происходит во время встреч. Но байка ветерана, выложенная на бумаге – это уже боевая проза.
У человека любой специальности и профессии есть в запасе множество баек, из которых, при желании, можно создать, и, надо отметить, создаются, прекрасные рассказы. Геологи, альпинисты, туристы, рыбаки, охотники – вставив специфические ключевые слова, приведенную байку можно приписать любой из этих и многих других групп.
Кстати, вспомнил этот случай с элементарным опытом из учебника по физике, и тут же сделал выводы о качестве школьного образования в советское время, и в нынешнее.
***
Когда-то мой воевавший товарищ спросил меня:
– Андрюха, вот что ты помнишь о войне?
Я поразмышлял, и ответил:
– Ничего особенного! Ну, было что-то, взрывали, постреливали…
– Вот именно! Быт, работа, служба, дрова кололи, окопы копали, бревна таскали… ничего особенного! А ведь война…
Согласен, когда человек привыкает к войне, для него она становится обычной жизнью. Быт, бытие.
Как много я встречал людей, у которых в жизни, с их слов, ничего особенного не происходило. Но, попив чайку, и скупо, по индейски, поговорив буквально, ни о чем, я их, что называется «разбалтывал». Какие грандиозные истории из своей жизни они мне начинали открывать! Я только и успевал задавать короткие наводящие вопросы. И немало статей и рассказов на основе этих бесед было опубликовано. А сколько эпизодов вошло в повести – немеряно! Сами же рассказчики при этом были убеждены – «ничего особенного» в их жизни не происходило: они простые люди.
Писатель, это человек, который из «ничего особенного» в состоянии создать повесть или роман.
Вывод: развивайте наблюдательность. Будьте внимательны к мелочам. Важно напрячься и включить память. Жизнь человека состоит из цепочек мелких и крупных событий, которые он не замечает, либо о них забывает. Мелочи плюс событие – это и есть жизнь, реальность. Да, рождение – это первый шаг к смерти. Но ведь это же не простая связка – родился-умер: что-то ведь происходит в промежутке между двумя этими крайними событиями.