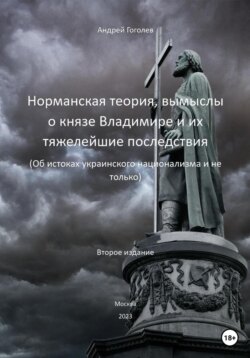Читать книгу Норманская теория, вымыслы о князе Владимире и их тяжелейшие последствия (Об истоках украинского национализма и не только). Второе издание - Андрей Константинович Гоголев - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Интродукция. Первые вопросы по теме
Зачин. История России от духовенства и «партнёров». И чего же мы ждём-с?
ОглавлениеЭта подглава содержит базовые сведения для предварительной оценки достоверности исторической информации с описанием христианизации Древней Руси, некоторые обзорные данные с акцентом на историю появления в стране Писания (Библии), а также оценки доступности широким массам образованных граждан Древней Руси как текста Писания, как и списков Национальной летописи.
Использую базовый посыл от Петра Ф. Каптерева, на мой взгляд, идеальный своей логикой:
«Если духовенство или дворянство данного народа примется за выработку педагогических идеалов, то это будут идеалы духовенства и дворянства» [П. Ф. Каптерев. История русской педагогии. 1915 (Источник 20.1 на Сайте)].
Эту фразу (сменив лишь действующие лица) можно смело распространить на все остальные инструменты идеологической обработки людей: и на нынешние методы нейролингвистического программирования (НЛП), и на предмет «История», как составляющей части методов НЛП, тем более.
Факт неоспариваемый никем: события истории России вплоть до начала XVII века фиксировались исключительно духовенством. Все списки летописей писались монахами, а заканчивали они свой эпохальный сказ кто чуть раньше, кто чуть позже. Софийская и Ермолинская летописи завершили своё повествование записями под 1553 и 1533 годами, остальные списки Национальной летописи – на хроноотрезке с 1495 (летопись Авраамки) по 1646 год (Патриаршая летопись)1.
При этом даже в начале XIX века на руках у впервые только в XVIII веке народившихся русских историков не было, по сути, ни одного летописного текста, вышедшего бы непосредственно из-под пера его автора!
Удивительно, но это обстоятельство даже и в XXI веке не всем представляется естественным.
При всём при том весьма, и более чем примечательно: в библиотеке патриарха Никона, грандиозной для XVII века по объёму (более одной тысячи наименований), никаких следов наличия хотя бы одного, и хоть какого списка Национальной летописи нет (судя по инвентарной описи от 1658 года). Соответственно, нет в той Описи и грандиозной Патриаршей (Никоновской) летописи – ныне тома́ 9–14 ПСРЛ, издававшиеся типографским способом на протяжении аж пятидесяти шести лет (с 1862 по 1918) и распространявшиеся по подписной цене обычно в 3 рубля за один том (примерно 10 % месячной зарплаты квалифицированного рабочего в начале XX века).
То есть история страны (я веду речь об описании жизни людей и событиях в обществе, а не внутри дворцовых тусовок) де-факто не интересовала РПЦ никогда.
Запомним: сегодня мы читаем Патриаршую (Никоновскую) летопись, отредактированную (как именно? кем? в который раз отредактированную? или впервые написанную?) ориентировочно в 1637 году и откопированную (как именно? когда точно?) в Троице-Сергиевом монастыре специально для Патриарха Всея Руси. А затем уже типографски изданной подстрочником в современной для XIX века орфографии и, скорее всего, отредактированной, и в который уже раз.
Похоже, что летописи, не являвшиеся ни богополезными, ни церковно-служебными книгами, исходно хранились преимущественно у заказчиков написания тех летописей, то есть у хранителей итогов самопиара. На том всё сходится: хранились списки летописей больше не для прочтения, а для обладания, в том числе и как сборники доказательств причастности данного Заказчика к какой-либо генеалогической ветви властителей глубокой Древности, как и для доказательства направляющей роли РПЦ в истории страны2. Ведь говорил же пророк Ездра, что в стародавние времена книги хранились в том же помещении, где хранились и драгоценности [Езд. 6:1].
Но время неминуемо катилось, и вскоре единовластие настолько укрепилось на Руси, а местничество к XVI веку настолько стало традиционным, что смысла заниматься летописанием не осталось – никому и ничего уже не надо было доказывать; передел власти и собственности был завершён, генеалогические дерева боярских и прочая родов были прилежно выписаны. И наступила в описании событий истории России очень длинная пауза: летописание как жанр прекратило своё существование, а вот профессиональные историки так и не народились на Руси. И эта ситуация всех устраивала! Не так ли?
Похоже, что лакуна внимания элиты общества к своим древностям значительно более чем в столетие (sic!) была обусловлена и тем ещё, что первые Романовы в течение всего XVII века предметно и очень плотно занимались редактированием истории своей страны, редактированием списков Национальной летописи, и в том числе в целях синхронизации отечественных событий с европейской хронологией (Россия ж це Европа!). Благо библиотека Ипатьевского монастыря в Костроме была полна трудами, в основном, польских историков (к именам которых мы ещё вернёмся), труды которых и были взяты как истина в последней инстанции первыми двумя правителями России XVII века и о чём без обиняков говорится в Ипатьевской летописи.
Похоже, Романовым не давали покоя лавры первого на Руси историка, царя Ивана IV Грозного с его Царь-книгой, памятником мирового уровня, который содержит, на мой взгляд, на порядок более внятный сюжет истории человечества, чем корпоративный еврейский текст под названием ТаНаХ, известный у православных как «Ветхий Завет».
Сегодня рассредоточившись по трём библиотечным хранилищам равными частями, хранится один единственный оригинальный экземпляр литературного шедевра XVI века, содержащий описание русской версии событий на планете от Сотворения мира и вплоть до Троянской войны, затем подробную отрисовку походов Александра Македонского, изложение Евангельских событий в ви́дении староверов XVI века и наконец описание истории России. Грандиозный Лицевой летописный свод царя Ивана IV Грозного состоит из 9 745 листов, на которых размещено 17 774 иллюстрации-миниатюры; истинно Царь–книга. Её объём даже с Библией, самым объёмным сборником религиозных книг Средневековья, несопоставим: если положить все листы ЛЛС друг на друга, то высота получившейся кипы составит около двух метров весом около 800 кг!3
Удивительно, но столь ценный памятник мирового уровня никак не мог найти постоянного хозяина в своей стране («Ну, нет пророка у своём Отечестве!»): то он, никем из историков не востребованный, валялся в библиотеке Печатного Двора, то в Типографской библиотеке… В конце концов из Синодального хранилища Свод в начале XIX века был изъят и продан (sic!) по происхождению греческому дворянину и русскому меценату Зою П. Зосиме, кстати, спонсору строительства первой астрономической обсерватории МГУ. Но вот незадача: по пути ли к Зосиме, иль много ранее гла́вы Национальной летописи от царя Ивана IV, в которых был изложен период истории страны до 1122 года, и в которых, очевидно, описывалось изначалье Руси и ход её христианизации, странным образом оказались утеряны, или якобы утеряны!.. Много чего происходило с литературными памятниками древности в период правления Дома Гольштейн-Готторпов-Романовых.
Лишь только в 1764 году была издана светская «Коллекция Русской истории» Герхарда Миллера (†1783), да и то на немецком языке. Однако это был отнюдь не первый результат труда бригады немецких специалистов в Российской Академии наук в лице Августа Шлёцера (†1809), а также Готлиба Байера (†1738), получивших госзаказ ещё от императрицы Анны Иоанновны и её «поводыря» Эрнста И. Бирона на разработку свя́зной истории Российской империи и обязательно синхронной истории Западной Европы. Были до 1764 года и доклады немцев в университете, и отдельные публикации по теме «История России».
«Славные» итоги наставлений Анны Иоанновны по заимствованию Россией культуры Западной Европы, этой клинической русофобки на русском троне, подхватил затем потомок Кара Мурзы, праправнук лидера степняков (букв. Чёрного Властителя), пригретого когда-то Борисом Годуновым; теперь русифицированное имя этого историка известно как Н. М. Карамзин. Именно ему мы обязаны упрочением норманской теории, которая к XX веку выстроила перед собой циклопические баррикады подтасованных летописей, и дело лишения русского люда своей истинной истории было, по сути, завершено трудами персонажей частенько совсем не русских кровей.
Ещё пример тому? Вот перед нами профессор Гельсингфорсского (Хельсинки) университета В. Й. Мансикка, специализацией которого был вообще-то угро-финский эпос. Совершенно непонятно, что его подвигло открыть Ипатьевскую летопись, но после этого профессор успешно «похоронил» связь древних русских богов с египетскими фараонами, связи России и Египта, что так конкретно были отражены в летописи под 1114 годом. Аргумент у финна был «убийственен» – всё это ложь просто потому, что это вздор. В то время как связь Киева с Египтом легко доказывается, в частности, существованием древнейшего документа X века под условным названием «Киевское письмо» (о нём чуть далее); см. также прил. 8. Однако выводы Мансикки историками РФ так до сих пор не опровергнуты. Наверное, потому, что за него ещё в начале XX века вступился академик А. А. Шахматов? Ну а ныне, в XXI веке кто является заступником конкретно? С какими реальными аргументами?
Предвзятому взгляду на историю России инородцев-иностранцев смогли противостоять только Ломоносов и Татищев, но (внимание!) их фундаментальные контр-исследования по истории Отечества увидели свет лишь через год и, соответственно, через 18 лет после их смерти: только в 1766 году вышла в свет «Древняя Российская история» Ломоносова, а в 1768 году «История Российская с самых древнейших времён» Татищева; все черновики авторов при этом «странным образом» якобы были утеряны. И, строго говоря, сегодня невозможно сказать с уверенностью, какой текст в данных книгах принадлежит авторству однозначно русских учёных, а какой – дело рук цензоров из по сути русского филиала немецкой Академии наук.
Спусковым же моментом выхода «из дрёмы», резкого повышения внимания интеллектуальной элиты общества к своим Древностям послужила, на мой взгляд, победа России в Отечественной войне 1812 года: добравшись до Парижа в 1814 году, наши воины с удивлением обнаружили, что культура аборигенов мало чем отличается от русской, а если местное общество и отличается нравами, то в худшую сторону. И тут от энергии победы, от переполняющего душу чувства патриотизма и гордости за свою страну у людей перехватывало дыхание; впервые за много столетий граждане России в массовом порядке начали интересоваться историей жития своих пращуров, это стало даже модным, и интеллектуальная элита бросилась искать документы с описанием своих истоков. Но только к 1834 году многочисленным волонтёрам удалось собрать 168 копий Национальной летописи (см. главу «Введение» в Томе 1 ПСРЛ), некоторые из которых были буквально спасены от полного уничтожения4.
А теперь подсчитаем сколько даже не лет, а столетий Российское общество за последние четыре века приобщалось к своим истокам только крайне узким кругом лиц и, к сожалению, отнюдь не всегда русских кровей? Первые Романовы практику летописания в XVII прекратили вообще, появление на Руси собственных историков жёстко поставив на столетнюю паузу: первые исследователи Древностей (Ломоносов, Татищев) наявились на Руси только в XVIII и только после искорёживания Русских Древностей немецкими спецами по заказу императрицы Анны Иоанновны. При этом то, что Романовы натворили с исходными текстами литературных памятников за этот срок, даже представить трудно! Дальше опять наблюдаем столетнюю лакуну интереса широких слоёв русского общества к своим Древностям вплоть до завершения Отечественной войны 1812–1814 гг. – Итого аж двести долгих лет! Двести лет интерес общества к своей истории, к её изучению и анализу если не блокировался властью, то, по крайней мере, не поощрялся никак. Доступ к имеющимся древним документам сколько человек имели? – Один, два, десяток-другой на всю страну… Сколько?
И вот наконец, в начале XIX родилась идея создания печатной версии всех списков Национальной летописи. Идея издания ПСРЛ принадлежала декану исторического факультета университета академику Николаю Г. Устрялову, первым главным редактором стал акад. Яков И. Бередников. Тексты изначально издавались в оригинале, с разночтениями по различным спискам… Удивительно, но работа по изданию ПСРЛ не завершена и поныне, в веке XXI-м (sic!).
Стоит непременно отметить, что идея акад. Устрялова оказалась более чем актуальной для его современников, она легла на благодатную почву: начало печатного издания ПСРЛ совпало с мощным приростом в стране образованной и весьма пассионарной части её населения. Можно привести лишь несколько примеров разительного отличия общества начала века XIX от прежних времён:
в поместье Тригорское (Псковская губерния), куда Пушкин похаживал из Михайловского на свидания с Анной Керн, была библиотека из примерно одной тысячи томов на 14 языках мира (все книги сохранились);
в имении Н. И. Балычева (Калужская губерния) находилась библиотека аж в шесть тысяч единиц хранения (sic!); редчайшие книги из коллекции князя Куракина о Смутном времени были собраны профессором А. В. Барсовым (Москва), а уникальным частным музеем древних статуй и изделий из фарфора слыло имение Араповых в Тамбовской губернии… Полный текст «Синодика книг и иных древностей», разграбленных в 1917–1918 гг. и уничтоженных «революционными» толпами см. на Сайте. Составитель – С. Р. Минцлов;
в стране впервые народились свои собственные учёные и исследователи: в 1802 году В. В. Петров открыл явление дугового разряда; П. И. Прокопович изобрёл в 1814 году первый в мире рамочный улей, Н. И. Лобачевский стал в 1829 году автором неевклидовой геометрии, Д. А. Загряжский изобрёл гусеничный ход (1837), Е. М. Артамонов – первый в мире велосипед с педалями и поворачивающимся рулевым колесом (1801), Б. О. Якоби – первый электродвигатель (1834); металлург П. П. Аносов раскрыл тайну изготовления древних булатов (1840)… Было чем гордиться России и за мореходов: И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский в 1803–1806 гг. совершили первое русское кругосветное путешествие, описав опять-таки первыми житие люда на о. Сахалин и на Камчатке, а Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев в 1819–1821 годах открыли Антарктиду! – И это далеко не полный список нарождающейся плеяды русских гениев и их открытий.
Для осознания качества той информации, с которой нам предстоит далее встретиться, стоит отметить примечательные метаморфозы, которые приключились с единственным в Средние века кладезем знаний – с книгами еврейского Писания (ТаНаХа, то есть «Ветхого Завета»)5 и Благих вестей (Нового Завета), собранных под одной обложкой c названием «Библия», от греч. τὰ βιβλία (букв. ‘книги’).
Поначалу отмечу, что первая на Руси Геннадиевская Библия (1499), была издана и не в Киеве, и не в Москве, а в Новгороде, и лишь в трёх экземплярах, являлась рукописной и, очевидно, практически никому не доступной. Таким образом широкие массы верующих Древней Руси по определению ранее начала XVI не могли получить осознанных представлений о сути своей веры через личное прочтение Библии. Такая возможность появилась только с появлением передовой технологии вёрстки и копирования текстов, то есть с появлением на Руси книгопечатания. Но чего верующие России так и не дождались вплоть до XVI!
Первая печатная Библия на русском языке была издана мизерным тиражом подо Львовом князем К. К. Острожским лишь в 1581 году, спустя более столетия с даты издания Гутенбергом первой в мире печатной Библии Мазарини (1453), и спустя аж почти 600 лет со времён христианизации Руси. Впрочем, с полным текстом книг Ветхого и Нового Заветов до начала XVII века даже альфа-клирики Руси знакомы не были постольку, поскольку весь, почти тысячный тираж Острожской Библии разошёлся исключительно по территории современной Беларуси!
Возвращаясь к первой на Руси рукописной Библии, спросим себя: а сверстал ли спустя 445 лет после Великого раскола Церквей Новгородский митрополит Геннадий именно православную Библию? Судите сами.
Исходниками для его версии Библии служили:
Псалтырь, Евангелия и Апостол («Деяния св. апостолов») в уже существовавшем на Руси состоянии на церковно-славянском языке;
труды хорвата-католика Вениамина по переводу на церковно-славянский текста Вульгаты (Biblia Vulgata — «Общепринятая Библия», лат.); им же частично были использованы и глаголические тексты (он творил в Новгороде; и вот же полиглот!);
доморощенные переводы книг с той же Вульгаты московского дьяка Дм. Герасимова (если что-то не понимал по-латыни, то оставлял слова как есть, но записывая их русскими буквами);
книга Есфирь как результат усердий неизвестного автора из Руси Литовской (переводил с еврейского оригинала);
труды (как я предполагаю) московского писца Ивашки Чёрного, составившего в том же XV веке обширный сборник книг ТаНаХа и Нового Завета.
Впрочем, идти на поводу у современных установок о Православии как о наследии греков, об отвержении Русью римской Библии-Вульгаты – совершенно бездумно; факты говорят об обратном: вплоть до начала XVI века в стране не было ни одного переводчика с греческого вообще и, следовательно, любой, абсолютно любой библейский текст на русском языке де-факто был переводом Писания с латыни, то есть с Вульгаты! Представляется, что и с термином Септуагинта знаком никто и не был в те времена. Это известно в том числе из сообщения А. Н. Ясинского (1889 г.) о приключениях Михаила Триволиса (на Руси – Максима Грека):
«Великий князь Василий 15 марта 1515 года отправил Василия Копылу Спячаго просить с Ватопеда (ведущий монастырь на Афоне – А.Г.) книжнаго переводчика старца Савву, но, так как Савва был уже многолетний старец и страдал ногами, то прот (протоиерей – А.Г.) и ватопедские старцы решили отправить Максима “искуснаго, как писали они, в божественном писании и способнаго к толкованию и переводу всяких книг и церковных, и глаголемих еллинских”.
Немедленно, по приезде его в Москву, куда он прибыл 4 марта 1518 года (только через три года! – А.Г.), ему поручили перевод Толковой псалтири древнейших учителей церкви.
Так как Максим славяно-русский язык знал плохо, то дело перевода обставили так: Максим переводил с греческаго на латинский, два толмача Димитрий Герасимов и Власий с латинскаго на славянский, а Михаил Медоварцев и Сильван, инок Троицко-Сергиевскаго монастыря, занимались перепискою.
Через год и пять месяцев перевод псалтыри окончили, но ещё ранее Максим успел перевести, по желанию митрополита Варлаама (1511–1521), толкования неизвестнаго на последния главы Деяний Апостольских.
Этою своею деятельностью Максим так угодил великому князю и митрополиту, что его упросили остаться в России и поручили исправление богослужебных книг, наполненных грубыми ошибкам, исправление, которое он начал с Триоди (богослужебная книга с трёхпесенными канонами – А.Г.)…»
Что же получается? Перевода семидесяти толковников с греческого языка, то есть Библии-Септуагинты исходно не могло быть по указанной причине на Руси в принципе, а, с другой стороны, во времена правления первого на Руси царя московская образованная элита общества, и как мы сейчас увидим, точно знала, что Ориген монтировал Библию на латыни, пользуясь шестью непонятно какими источниками, а всего он скомпилировал методом copy-paste около 6 000 текстовых фрагментов, наверное, из свитков на иврите, в обилии хранившихся в генизе Александрии, где оные лежали внавал. То есть католическая Библия (как перевод на латынь с иврита) исходно вполне себе может представлять грандиозный микс из всех историй, что евреи насобирали в свои хранилища-генизы. Привожу тот исходный текст о трудах Оригена, о котором клирики Древней Руси понятия не имели, или не захотели прочитать о том в Царь-книге:
«Царство 21-е Севира (Луций Север – Прим. ред.), который воцарился в Риме в середине 5686 года от Адама (186 лето от Христа)… Сей же [Ориген], получив досуг, диктовал скорописцам, а книгописцы, обученные каллиграфии, на кожи переписали 6 000 книг. Все же божественное Писание истолковал за 18 лет…
Итак, все истолковав Божественное Писание, он умер, будучи 69 лет. О нем же и божественный Епифаний в «Панариях» говорит: «Амбросий ибо пищей снабжал его, скорописцев и служащих, кожами и прочим, им необходимым, Ориген же в течение долгой жизни и бессонные ночи, и досуг посвящал великому труду, изучая Писание, и своим творением, названным Шестогубицы, и прочим, муж с честью вознаградил себя за труд. Ибо не только воедино собрал четыре знаменитых перевода Писания, но также и 5-й и 6-й, найденные им во время его прихода в Иерихон, в один из алтарей вложенные.»
При этом никого не смущало в Москве, что в Центре Православия, в одном из соборов Царьграда был первый в Восточной Римской империи католический орга́н:
«Он же (Царь Феофил – А.Г.)… создал и диковинный орга́н, затейливо украшенный златоковаными деревьями с сидящими на их ветвях птицами…» [ЛЛС]
Похоже, что исключительно по причине раздутого самомнения национальной элиты очередной «избранной нации» Империи Третьего Рима – мол, своего нет, а чужим пользоваться не будем, – даже и после стараний новгородского митрополита Геннадия (Гонзова) по вёрстке первой рукописной Библии, как и стараний князя Константина К. Острожского по изданию первой среди восточных славян печатной Библии как еврейская Сага, так и сборник Благих вестей на территории Руси в печатном варианте не появились. По крайней мере, даже в личной библиотеке патриарха Никона в XVII веке Острожской Библии не было (sic!).
Первой же на Руси признаваемой православной стала Елизаветинская Библия, изданная в 1751 году опять-таки мизерным тиражом в четырёх томах на церковно-славянском языке, но где почти 400 гравюр были созданы… в Германии и подписаны на латыни, а все числовые данные в пику новациям Петра I отображены не арабскими цифрами, а старославянскими буквами.
Рис. 2. Елизаветинская Библия, 1751 год. Фрагмент.
Суть да дело, но с 1751 по 1839 год вышло лишь 20 изданий этой Библии. Однако их явно не хватало: население страны ускоренными темпами приближалось к 50 млн человек, и для такой огромной страны даже 20 тысяч копий Библии – это «смех»! В итоге, в 1805 году на всю Смоленскую епархию было выдано лишь десять экземпляров Писания (sic!). Кроме того, язык Елизаветинской Библии по-прежнему оставался церковнославянским, то есть далёким по доступности широким массам верующих языке. Образованные же клирики предпочитали Библию-Вульгату (ещё в начале XIX века основным языком обучения в Киевской семинарии была латынь!). Елизаветинская же Библия больше использовалась только в качестве богослужебного текста.
Надо ли удивляться в какое мракобесие впадал малограмотный люд из-за отсутствия самой возможности лично прочитать Благие вести? Так в конце XIX века в Москве на пик популярности вышел некий «святой» Семён Митрич, вся «святость» которого заключалась в круглосуточном лежании в лохмотьях в доме одной полоумной мещанки; при этом бабёнки-приживалки собирали с тех лохмотьев его мочу и продавали её как святую жидкость! И подобные персонажи плодились десятками; спрос рождал предложение! – Жуть!
Вывод из приведённых фактов для целей настоящей книги оказывается весьма жёстким: фрагменты библейских текстов ни при каких обстоятельствах не могли попасть на страницы Национальной летописи при описании рассматриваемых здесь событий X–XI веков постольку, поскольку до начала XVI века практически никто с текстом Библии на Руси и знаком-то не был! Особенно, если речь идёт о цитатах из книг ТаНаХа за скобками событий Торы. Увидеть библейские цитаты в Национальной летописи при описании событий ранее XVI века – это всё одно, как увидеть в трудах Ньютона формулы Эйнштейна.
Теперь сформулирую предположение, которое (согласен) находится где-то уже на грани здравого смысла. Но, зная с кем имею дело в странах захода солнца, вполне можно допустить, что русские не потому не были знакомы с полным текстом Библии, что были тёмными и необразованными, а потому, что иудохристиане ещё попросту не успели сочинить «древние» тексты еврейского Писания! Ярчайшим примером тому служит история создания книги Иосиппон (о ней – далее). По крайней мере, веду речь об отсутствии книг Библии в их современном объёме, редакции и номенклатуре. Это предположение доказывается также и ужасающим интеллектуальным уровнем исходного текста английского Писания образца начала XVII, с которым столкнулся Ноа Вебстер (см. подглаву «О русской á la еврейской письменности» далее), а также абсолютно несуразным, несоответствующим климатическим особенностям ни Аравии, ни Египта библейскому набору объектов флоры и фауны (по ареалам их фактического распространения), ни известным в Древности элементам человеческой анатомии, ни уровню бизнес-отношений, ни кредитной и монетарной системам, ни климату, ни предметам скарба, ни достижениям химии, и даже несоответствующим номенклатуре известных в Древности обработанных драгоценных камней (мы же помним, что, например, алмаз и бриллиант – это два разных понятия), etc., которые приводятся в Библии и подробно описываются в индексах Стронга. – Баланс событий по этим информационным позициям Писания не сходится катастрофически (см. пример в прил. 5)! Особенно в текстах изданий Библии древних времён, свёрстанных трудами разных народов Европы.
1
История у России одна. (Кто против?). Стало быть и Национальная летопись – также может быть только одна. Другое дело – её многочисленные списки-копии и их изводы.
2
В СССР на всех книжных полках лежала «История КПСС», издаваемая огромными тиражами с обязательным её изучением во всех вузах страны. В этом учебнике оба этих принципа летописания были соблюдены один в один. В частности, читателям было предписано даже и не сомневаться в утверждении «Прошла весна, настало лето. Спасибо партии за это!».
3
Поражает: как Свод, изначально хранившийся в десяти кипах, оказался переплетён при том, что это было технически трудновыполнимо: процесс фальцевания в тетради 200-микронных по толщине листов кустарно изготовленной тряпичной бумаги отвратного качества на мой (и не только на мой) взгляд несовместим с прошивкой их грубой пеньковой верёвкой в блоки – листы неминуемо должны были бы рваться!
4
Известен случай, когда по пути в монастырь один из волонтёров-краеведов встретил повозку, управляемую монахом, на которой была, в том числе, и куча каких-то бумажных, полуистлевших листов. На вопрос «Куда везёшь?» монах ответил: «Везу сжигать за ветхостью…» Так был спасён один из литературных памятников.
5
ТаНаХ – аббревиатура, отражающая трёхчастное деление текста еврейского Писания: I. Тора («Закон» – 5 книг) + II. Невиим [«Пророки»: Старшие (ранние – 6), Большие (поздние – 3), Малые (поздние – 8)] + III. Кетувим («Писания» – 18), в христианстве составляющие «Ветхий Завет», состоящий, таким образом, из 40 книг; у католиков – из 56 книг.