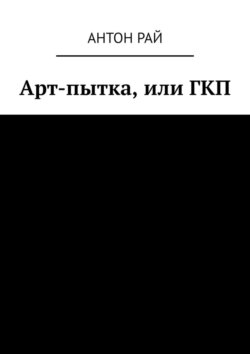Читать книгу Арт-пытка, или ГКП - Антон Рай - Страница 17
15. Аристократическая тайна
ОглавлениеРечь идет об аристократическом отношении к действительности. А в чем состоит его суть?
Крот. В том, что привилегированное меньшинство ничего не делает, в то время как рабы гнут на него свои спины.
Томский. Да, что-то такое вы уже говорили. А теперь представьте себе… Аристотеля.
Крот. Опять Аристотеля? И почему именно Аристотеля?
Томский. Сейчас станет ясно. Вот он, Аристотель, по-вашему, ничего не делает?
Крот. Нет, он, конечно, что-то делает и даже что-то очень важное, но ведь это не отменят того факта, что рядом с ним существуют рабы, обеспечивающие ему возможность философствовать. Более того, насколько я помню, Аристотель как раз-таки идейно оправдывал рабство.
Томский. Да, это так. «Одни люди по природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть рабами и полезно и справедливо»14. Так говорил Аристотель.
Крот. Взять бы этого Аристотеля, да за такие слова года на три на Соловки!15 По-моему, это было бы для него очень полезно, а по отношению к нему – только справедливо.
Томский. То есть, по-вашему, нет людей, которых можно было бы назвать рабами по своей природе?
Крот. Нет, таких людей нет. Всякое оправдание рабства «по природе» ведет только к тому, что люди оказываются рабами по факту нахождения в рабстве. «Почему я раб?» – спрашивает раб. Если сказать ему, что он раб, потому что порабощен, он может восстать и сбросить свои цепи. Но если сказать ему, что он раб по природе, то против чего ему тогда восставать? Против своей природы? Нет, рабство по природе – это гнусность и, слава богу, что современному человеку претит сама мысль о чем-то подобном.
Томский. Замечательно сказано! Я даже не знаю, что и возразить вам, тем более, что логический механизм описан вами безупречно. Оправдание рабства – это ужасно. А теоретическое рабство «по природе» на практике означает всего лишь то, что человек, по воле судьбы оказавшийся в рабстве, не имеет права восставать против своей участи. Все верно. Вот только как быть с Аристотелем?
Крот. А как с ним быть?
Томский. Вот я и спрашиваю – почему Аристотель и с такими «негодяйскими» мыслями всё же является то ли одним из величайших, то ли и вовсе величайшим философом всех времен?
Крот. (с иронией) Повезло?
Томский. (без иронии) Да, Аристотелю действительно повезло. Повезло родиться в Древней Греции, хотя тогда она и называлась Элладой.
Крот. Как сказал один шутник: древние греки не знали, что их назовут древними греками.
Томский. Хорошо сказал ваш шутник. Они действительно этого не знали. Зато они знали одну вещь, которая и сделала цивилизацию Древней Греции столь уникальной – такую вещь, которую после греков (и римлян) так никто больше и не узнал.
Крот. Вы прямо заинтриговали. Что же это за вещь такая?
Томский. А вот не скажу. Пусть это останется тайной – моей и Аристотеля, потому что именно он нашел наиболее точную формулировку для выражения этого тайного знания, и именно я лучше других понял значение его открытия.
Крот. Ну все равно ведь скажете. Не заставляйте упрашивать – это несолидно.
Томский. А вы точно готовы услышать?
Крот. Я готов.
Томский. И зрители готовы?
Крот. Зрители готовы ко всему. Их ничем не прошибешь.
Томский. Хорошо. Тогда пеняйте на себя. Так вот, в том же самом труде, где Аристотель рассуждает о рабстве, он рассуждает и о других вещах и, этак между делом, он произносит фразу, схватывающую всю суть древнегреческой цивилизации. «Досуг есть определяющее начало для всего», – так сказал Аристотель, и это одна из величайших фраз, когда-либо произнесенных в истории.
Крот. Повторите, пожалуйста, эту «величайшую» фразу.
Томский. Досуг есть определяющее начало для всего.
Крот. Не впечатлен. И даже не очень понял.
Томский. Конечно, вы не поняли. Поэтому и вы, и вообще мы – не древние греки. Греки поняли бы сразу. Потому что для них и только для них досуг был все-определяющим началом.
Крот. Подождите, что такое досуг, и я, и все мы знаем. Досуг есть время, свободное от работы. Если досуг есть самое важное, то отсюда и получается то самое аристократическое ничегонеделание. Понять это – дело нехитрое, а вот согласиться с этим – слуга покорный. То есть «не понимаю» я только в том смысле, что «не принимаю».
Томский. Да нет, вы именно что не понимаете. И понять фразу Аристотеля – как раз-таки дело очень хитрое. Потому что наличие свободного времени полагается Аристотелем поводом для размышления, что с этим свободным временем надо сделать, а вовсе не синонимом ничегонеделания. Заниматься философией – это вовсе не дело, в смысле работы, и уж совсем не безделье; заниматься философией, значит, правильным образом организовать свой досуг. Равно как и читать философов следует исключительно на досуге. Вообще, естественным образом досуг заполняют именно науки и искусства.
Крот. А, по-моему, естественным образом досуг, что древних греков, что римлян заполняли оргии.
Томский. Увы, да, – из песни слова не выкинешь. Но различного рода оргии сопровождали досуг во все времена, а вот чтобы дойти до понимания досуга в его положительном, деятельном значении – до этого дошли только греки. Еще раз: досуг вовсе не есть время, свободное только от работы, досуг есть время, свободное еще и для деятельности. Досуг-деятельность необходимо противопоставить как досугу-отдыху от деятельности, так и псевдо-деятельной работе. Далее важно понять, что единственной формой подлинно досуговой деятельности является творчество. Творческий человек – человек, деятельный на досуге. Основная же проблема состоит в том, что слово «работа» сегодня употребляется почти синонимично слову «деятельность». Но там, где понятие «деятельность» узурпируется понятием «работа», деятельность противопоставляется досугу, а досуг приравнивается к отдыху (если «деятельность» равно «работа», то «досуг» равно «отдых»). Там, где под деятельностью подразумевается творчество, досуг и деятельность сплавляются воедино. Свободен для творчества, значит, всё время деятелен. Свободен от работы – значит, свободен от дел. Вбейте слово «досуг» в гугл – какое определение выскочит?
Крот. Давайте вобьем. «Досуг – время, свободное от работы и важных дел».
Томский. Великолепное в своем завершенном идиотизме определение! Именно что свободное от всех важных дел. А вот что творчеством возможно заниматься лишь на досуге, и что именно это и есть важнейшее из дел – чтобы понять это, повторюсь, нужен не менее чем Аристотель. А гугл, идя на поводу общепринятых представлений, оказывается в дураках. И вы вместе с ним.
Крот. Спасибо.
Томский. Ничего личного.
Крот. Хорошо, пусть я дурак. Но из вашего спича я лучше всего понял лишь то, что вам очень не хочется работать. Что ж, никому не хочется. Кроме датчан. Только я до сих пор не понимаю, в чем новизна описываемой вами ситуации. Что предпочтительнее творить, а не работать – это и так ясно, а уж какие слова тут использовать – «на досуге» или «в рабочее время» – все это только слова. Рабочий работает, творец творит; что в Древней Греции, что – сегодня.
Томский. «Только слова»! – весьма симптоматичные слова. Но, знаете ли, для Культуры «только слова» – почти самое важное и есть. Да и для вас. Вся ваша работа построена по принципу «только слов», ведь её суть – в разговорах с людьми.
Крот. И вы прибавили еще сколько-то слов к уже сказанным, – чтобы с помощью новых слов убежать от объяснения старых.
Томский. Хорошо, хорошо, продолжим наш разговор. Вы хотите сказать, что, раз уж творческий человек добился звания творческого человека, то он тем самым всё свое время посвящает творчеству, как это время ни назови, – хоть свободным, хоть рабочим?
Крот. Именно.
Томский. А я полагаю, что лишь тот, кто вообще не знает о том, что такое работа, имеет возможность стать подлинно свободным, то есть творческим человеком. При понимании работы как синонима любой деятельности вообще возникает иллюзия возможности снятия жесткого противопоставления творческой деятельности какой-либо иной. Что творческая деятельность противостоит труду для выживания – раньше это было ясно, тут не о чем было говорить, а вот что творческая деятельность противостоит работе – это уже не так ясно, и из этой неясности проистекает страшная опасность превращения творчества в работу. Опять же именно с появлением понятия работы труд наконец-то приобретает те самые четко-заданные временные рамки, которых вовсе нет ни в необходимом для выживания труде, ни в творчестве. Работа всегда регламентирована, работник всегда работает «от» и «до». Кстати, именно отказ от регламентации рабочего времени обычно указывает на то, что работа уклоняется от своей сути: когда рабочего заставляют работать чуть не круглые сутки – он скорее выживает, чем работает, а когда человек увлекается своей работой настолько, что забывает о времени – по своему психологическому настрою он приближается к творческому человеку. Идеальный же рабочий человек всегда работает «от» и «до»; выживание и творчество занимают все, а работа – лишь какое-то время. Отсюда и возникает концепция досуга как времени, высвобождающегося после окончания работы. При выживании понятие досуга вообще отсутствует – не из-за того, что, допустим, те же крестьяне не отдыхают, – но и их отдых настолько вписан в общий жизненный уклад, в основе которого лежит воспроизведение существования (то есть выживание), что время остается в своей основе неделимым. Напротив, все время аристократа – досуг, который он чаще всего превращает в развлечение, но который можно понимать и как основу для творческой деятельности (или для созерцания творческой деятельности). Работник же работает какое-то время, а какое-то время у него свободно от работы, – оно-то отныне и называется досугом. И вот здесь очень четко проявляется вся подневольная суть работы, – раз уж высвобождающийся досуг почти автоматически воспринимается работником как отдых от работы. Сама внешняя регламентированность работы ясно указывает на ее подневольность – регламентировать время для работы и нужно лишь для регламентации бегства от нее. Конечно, ничего странного здесь нет – все-таки, при всей своей компромиссной срединности (между выживанием и творчеством), работа произрастает из необходимой для выживания деятельности; только при выживании подневольность как бы еще не совсем осознается – необходимость выживать заглушает мышление; работу же можно назвать осознаваемо-принудительной деятельностью; творчество же – деятельность собственно сознательная или свободная. Итак, выживают и занимаются творчеством всё время, но работают какое-то время – от и до. Получая свободу, работник способен употребить ее лишь на отдых – трудно представить себе более печальную картину! Именно здесь терпит крах и утопия – рабочее время вроде бы наконец-то можно сокращать (оно стало регламентированным), да вот беда – если освобождение от работы означает отдых, то ведь еще не ясно, что предпочтительнее – чтобы человек отдыхал или чтобы он работал? Смысл-то сокращения необходимого для выживания времени состоял в том, чтобы высвободить его для каких-то занятий, а работа – это и есть занятие! Поэтому на практике задача сокращения рабочего дня лишилась своего высокого утопического измерения и превратилась в нечто совсем иное – в поиск баланса, компромисса между чрезмерной загруженностью (нельзя, чтобы человек работал без остановки) и чрезмерным отдыхом (надо сохранять эффективность и объем труда). Идеальный рабочий день – день, при котором человек уставал бы ровно настолько, чтобы он мог отдыхать с чистой совестью – не слишком перерабатывая, но и не чересчур ленясь. В развитых странах постепенно пришли к практике восьмичасового рабочего дня или 40-часовой рабочей недели. Есть даже такой замечательнейший слоган: «Восемь часов – труд, восемь – отдых, восемь – сон». Поработал, отдохнул, поспал – и опять работай.
Крот. Примерно поровну – логично.
Томский. Логично-то логично, но именно здесь происходит размывание величайшего из представлений – представления о возможности использования досуга для деятельности. Но ведь работа это и есть деятельность! А на досуге мы хотим отдыхать. Точка.
Крот. Наконец-то.
Томский. Хотя нет, еще не точка. Еще один грех работы, грех, который тоже пытаются представить как всеобщий грех всякой деятельности, хотя он является специфически рабочим грехом – грех специализированного однообразия. Помните, как Маркс обрушился на специализацию труда, указав на то, что она порабощает человека?
Крот. А вы в ответ набросились на Маркса.
Томский. Да, и был не совсем прав. Маркс совершенно верно оценил удушающий потенциал специализации, только он не учел, что в конечном счете лишь специализация и позволяет человеку творчески освободиться. Петлю на шее рабочего он заметил, а вот когда он автоматически перенес эту петлю и на шею творческого человека, то поддался общему заблуждению, – когда работа, узурпировавшая понятие деятельности, выдается еще и за творчество. Впрочем, и здесь Маркс не совсем ошибся; в конце концов, это ведь во многом соответствует действительности – формирующееся в определенный исторический период стремление творческого человека выстроить свое творчество по производственному принципу. Но в любом случае очевидно, что как бы ни выстраивалось творчество, оно не может быть столь специализированно однообразным, как работа. И даже необходимый для выживания труд тоже далеко не однообразен – так как он встроен в природный цикл, а всякое время года требует своей особой активности. Я уже не говорю и о самом характере жизни в той же деревне, а ведь любой толковый крестьянин является своеобразным «мастером на все руки», умеющим делать все, что требуется по хозяйству (а чего только не требуется!). Работа же, посредством специализации, действительно резко сужает человеческий горизонт, – и в этом отношении занимая всё ту же срединную позицию. Необходимый для выживания труд более-менее одинаков для всех, – одинаков, но не однообразен; творчество, напротив, разнообразно и по своим видам (можно быть музыкантом, художником, поэтом, писателем, певцом; различные науки также предполагают свою химико-физическую специализацию), и по своему содержанию. Работа же разнообразна по своим видам (даже куда разнообразнее творчества – видов работ столько, что и не сосчитаешь) и в этом похожа на творчество, но зато она становится и специализированно-монотонной, – в этом проклятие работы и работника. Поэт не занимается одним и тем же, хотя бы он и всю жизнь писал стихи – доказывается это тем, что всякий стоящий художник выражает жизнь во всей ее полноте – какая уж тут узость специализации! К тому же всякий творческий человек волен интересоваться столь многим и помимо творчества (хотя все эти вроде бы побочные интересы обычно находят отражение и в творчестве), что жизнь его может быть названа однообразной лишь в том смысле, в каком жизнь как процесс вообще однообразна, но с точки зрения размаха деятельности и широты интересов жизнь творческого человека в потенциале как раз максимально разнообразна, а вот работник именно что занимается всю жизнь одним и тем же. Кстати, в современном мире эта проблема нередко решается именно по рецепту Маркса: чтобы не изнывать от специализированной тоски, современный работник в развитой стране всегда готов поменять свою работу на какую-нибудь другую и, тем самым, разнообразить свое существование. То есть именно что он (работник) хочет заниматься сегодня одним, а завтра – другим. Вот только это не решение проблемы, а лишь какое-то ее смягчение, кстати, еще раз подчеркивающее ущербную суть работы, которая оказывается настолько несущественным делом, что лучше всего было бы менять ее как перчатки. Здесь же отметим, хотя и несколько уклоняясь от основной темы нашей беседы, но все же отметим довольно странную на первый взгляд, но неуклонно набирающую силу тенденцию «возвращения к земле», когда горожане вдруг бросают города и переезжают в деревню. Раньше бы мы сказали, что они просто уходят на покой, сегодня мы видим, что в большинстве случаев это далеко не так, и что они едут туда полноценно жить, а вовсе не доживать свой век. С точки зрения разума это кажется довольно странным – зачем же добровольно возвращаться к жизни, выстраивающейся исключительно вокруг воспроизведения своего существования? Бежать надо от такой жизни, а не стремиться к ней. Почему же бегут, но не в ту сторону? А самая частая из называемых причин – абсолютная бессмыслица той жизни, которую люди ведут в городе, а это и есть рабоче-отдыхательно-сонная жизнь, в которой действительно чаще всего нет никакого смысла. Парадокс, но «возвращающиеся к земле», то есть вроде бы к максимально неразумной жизни, оказываются куда более разумными, чем те, кто остается в городах (а один наш философ метко назвал мегаполис местом, в котором огромное количество людей занято недостойными человека делами) – ведь они как раз осознают то, что другие осознавать не хотят (то есть бессмысленность городской псевдо-деловой суеты). Конечно, с точки зрения разума, они все равно обманывают себя, потому как надо бы дойти до высшей, творческой стадии существования (именно этого требует разум), но, если им это не под силу (а это под силу немногим), то, пожалуй, лучше уж жить на земле, чем загонять себя в узкие рабочие рамки. Вот теперь – точка.
Крот. Наконец-то.
Томский. Так вот, повторюсь, я полагаю, что лишь тот, кто вообще не знает о том, что такое работа, имеет возможность стать подлинно свободным, то есть творческим человеком. Аристократы не знали этого, понятие работы было органически чуждо для них. Современный же человек, находящийся в рабстве работы и, как следствие, не понимающий в чем смысл свободного времени (досуга), и творчество воспринимает как работу. Конечно, при этом аристократия как общественный класс вовсе не являлась творческим классом, но лишь классом, из которого преимущественно и естественным образом выходили творческие люди. В массе своей, как мы уже отметили, и аристократы воспринимали свое свободное время как повод для увеселений, а вовсе не как тропу творческой деятельности. Чем занималась аристократия на своем досуге, то есть когда не воевала? – в картишки, в основном, резалась, предоставляя творчество аристократическим отщепенцам. И само творчество тоже воспринималось аристократами скорее как увеселение на досуге-отдыхе, а не на досуге-деятельности. И все же очень важно, что аристократия как класс всегда по необходимости обращалась к искусству – именно потому, что когда человеку нечего делать, а время как-то заполнить надо, невольно приходят мысли о том, что хорошо было бы послушать такой-то концерт, посетить такую-то выставку или прочитать такую-то книгу. А иначе – что делать-то? Искусство рождается как нечто абсолютно необходимое для тех людей, которые покинули царство необходимости. В этом смысле искусство по своей природе аристократично. Но я вижу, что вам не слишком по душе мои слова.
Крот. Мы все же живем в 21-ом веке, а вы говорите о возрождении аристократий. Это звучит то ли смешно, то ли скорее даже нелепо. По-моему, все аристократии успешно сгнили, и, как говорится, туда им и дорога.
Томский. Ох уж эта прогнившая аристократия! А вы знаете, что те люди, которых называют культурными, вызывают у здорового народа примерно те же чувства – прогнившая интеллигенция, вроде как.
Крот. Везде есть свои подгнившие индивиды, конечно, но только аристократия была гнилой именно как класс. Именно в силу того, что она паразитировала на обществе.
Томский. Пожалуй, я не буду спорить, хотя и далеко не согласен. Дело в том, что мне нет особой нужды защищать аристократию как класс, и ранее вы напрасно сказали, что я выступаю за возрождение аристократии. Ни за что такое я не выступаю. В конце концов самым естественным делом для аристократии во все времена являлось военное дело – и чем в этом смысле аристократия отличается к лучшему от «простого» народа? Лучше бы уж землю обрабатывали… Но нет, людям дай только волю убивать и подчинять друг друга – они и довольны. А вот чем им заняться, когда их базовые материальные потребности удовлетворены – этого они не знают. То есть знать-то они догадываются – что заниматься надо науками и искусствами, но всякий класс как часть общества слишком вовлечен в дела общества, чтобы отдаться служению искусству в полной мере. Привлекательность аристократии состоит в том, что её склонность к искусствам возникает по необходимости, но тяга эта ещё не может получить должного развития. Аристократия – самый нерабочий класс, и в этом её сила, в этом она привлекательнее и буржуазии, и тем более пролетариата. Но одновременно аристократия и самый бездельный класс, – и в этом её слабое место. В этом она проигрывает и буржуазии, и пролетариату. Аристократия не делает правильные вещи, но при этом делает много неправильных вещей. Она не работает (в привычном смысле слова), но при этом слишком много воюет и развлекается. Поэтому я не буду защищать аристократию. Хотите считать её гнилой – пусть будет гнилой. Потом, не будем забывать, что аристократический порядок основывается на наследовании привилегий, а это уж, конечно, ни в какие разумные ворота не лезет. Но фраза «Досуг есть определяющее начало для всего» – один из важнейших камней в фундаменте нашего сообщества, и слова эти родились в величайшем уме величайшей из аристократических цивилизаций. Нет, я не хочу слишком уж защищать аристократию, но отдать ей должное мы все же должны.
Крот. Все равно вы меня не вдохновили. И, думаю, мало кого вдохновят ваши слова.
Томский. Как говорил товарищ Ницше: «Скажи своё слово и разбейся». Но, повторюсь, своего слова я еще далеко не сказал. Аристократический идеал – это всего лишь остановка на утопическом пути, и этот идеал все ещё слишком далек от идеала. Подлинный идеал один – это Культура. Соответственно, человек культурный, а не человек аристократический – вот кто меня подлинно вдохновляет. Но, чтобы человек стал подлинно культурным человеком, надо чтобы всё его время было свободно для приобщения к Культуре. Разве это нелогично?
Крот. По-моему, нелогично. Приобщение к культуре в современном мире – процесс достаточно естественный. Сама структура образования выстроена таким образом, что невозможно к культуре не приобщиться. А уж насколько глубоко тот или иной человек приобщается к культуре – дело его свободного выбора.
14
Аристотель. «Политика».
15
Все и так понимают, откуда произрастает эта фраза.