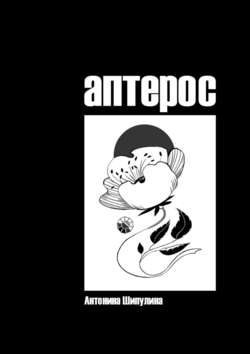Читать книгу Аптерос - Антонина Шипулина - Страница 2
Пролог
ОглавлениеНекоторые вечера бывают тяжелее других без особенных на то причин: сегодня не было дождя или снега, была осень, самое непростое для пахарей и их господ время, когда надзор даже за самыми горькими пьяницами втрое строже, чем всегда. Но народу в харчевне всё равно было отчего-то битком, при том у слишком многих уже достаточно заплетались ноги, чтобы они не желали вставать и подходить к стойке лишний раз. Особый труд доставляла необходимость иногда проталкиваться сквозь толпу: места для сидения хватало не всем, и люди у столов стояли, стояли и не у столов, группами они собирались даже на улице под самым порогом, в пучке света у распахнутых дверей, и всё это сопровождалось непрекращающимся громким говором, как живых голосов, так и её внутренних, придуманных. Или не придуманных – Эсме не имела понятия об их природе, знала только, что они есть и они не лгут.
Уже спустя пару часов голова раскалывалась. Хуже всего был проклятый земляной пол. Ходить по нему могло бы быть легче, будь у неё хорошая, целая обувь с добротной подошвой, но на подобное денег не было, и приходилось мириться с дешёвой, из телячьей кожи и вовсе без подошв. Более того, Эсме постоянно на ноги наступали, и она уже предвидела, как вечером, избавляясь от чулок, будет наблюдать вместо своих белых ступней посиневшее, в мозолях месиво. Ноги заживать не успевали, на старых ранах появлялись новые, и какую же зависть вызывали у Эсме чужие хорошие сапоги! Особенно в те моменты, когда эти сапоги отдавливали ей пальцы.
Ещё сильнее травило душу воспоминание о пробковых полах в Ратмире. Это было дорогое удовольствие, но в их господском доме полы всюду были либо каменные, либо пробковые, если речь шла, к примеру, о кухне или иных помещениях, где господа бывали, но куда не принято было водить гостей. Чудом из чудес было пройтись по мягкому, пружинящему полу босыми ногами, чтобы заглянуть, что варится в котле на кухне, услышать частый стук ножей, с умным видом проверить, какого качества доставили яблоки или как ощипали дичь, и при том быть совершенно сытой. Сейчас, если кто-то заказывал себе жареного поросенка или даже тушеные овощи, Эсме едва сдерживалась от того, чтобы не капать слюной им в тарелку. Да, их тут, конечно, кормили, но это была жизнь совсем впроголодь, а Эсме, чтобы не давать хозяину харчевни поводов злиться на себя, ела втрое меньше, нежели другие, и впятеро меньше, чем хотелось. Она никогда не могла назвать себя девушкой в теле, но теперь, лежа на постели, и так твёрдой и полной клопов, Эсме чувствовала, как больно упираются тазовые кости и позвоночник в дерево.
Хозяин харчевни был человеком лет пятидесяти, из имперцев по крови, зажиточным горожанином, который однажды решил обзавестись собственным надёжным источником дохода. Харчевня цвела и пахла уже более двадцати лет, стала местом в определенных кругах известным и почти приличным, и потому Эсме не хотела бы уходить отсюда куда-нибудь ещё. Помимо крыши над головой и пищи ей платили тут какое-никакое жалованье, работа была не самой тяжёлой, ей прощали то, как дурно говорит она по-имперски, и о большем она просить и не смела. До тех пор, пока не отыщет кого-нибудь из сородичей, конечно.
Хозяин был женат, но, как рассказала Вилория, жена сбежала от него. У них был сын, сейчас ушедший на службу, и маленькая дочь, однако девочка не протянула долго, и потому старик был вечно озлоблен. Эсме всеми фибрами души ощущала, что жизнь кажется ему сплошной несправедливостью, издевательством над ним; он не верил уже даже в возвращение со службы сына, да всё искал повода с тем рассориться и не передавать харчевню ему в наследство. В качестве развлечения он пил и иногда бил своих подчиненных за что ни попадя – просто оттого, что мог, имел на это право. Кто-то сопротивлялся, конечно, но Эсме только и могла, что избегать хозяина по возможности. Однажды ей сильно от него досталось: он пришёл в кухню, чтобы взглянуть, как едят из общего котла повара и официантки (последних тут жило тут всего трое – Эсме, Динка и Вилория), почему-то решил, что Эсме берёт себе больше прочих, схватил чугунную поварёшку и поколотил её при всех. Возмутилась только Вилория, и за ней, чувствуя, что это как-то неприлично, повара – они-то и отняли у хозяина поварёшку и отвели его прочь. У Эсме, от неимения на костях мяса, болели сами кости, но это было ничего. Она умела справляться с физической болью, но ничего не сумела поделать со своим постоянным страхом съесть хоть на ложку больше других. К этому прибавились другие мысли, о том, что голодно всем, и, беря больше себе, она вынимает это из чужого рта. Вина ела её поедом – в прямом смысле.
Ночами Эсме часто плакала. Вилория делала вид, что этого не замечает. Динка первое время кружилась вокруг, а вскоре ей это надоело. Затем она вышла замуж и поселилась в доме у мужа. Как правило, Эсме плакала от обиды, от усталости, от задетой гордости, из-за каких-то маленьких бед, случавшихся за рабочий вечер. Иногда её доводили до слёз разорвавшиеся чулки или пятно на единственном приличном платье. Она невыносимо устала стирать руками в холодной воде после долгого дня, а потом долго ждать, пока платье высохнет, не высовывая носа из-под одеяла. Она бы сшила себе другое, но почему-то каждый раз отмахивалась, думая, что проживёт и так, и тратила деньги на что-нибудь еще, к примеру, книги или гребешки для волос. Её длинные волосы линяли от голода, и сделать из них что-то сколько-нибудь приличное отнимало немало сил. Эсме совершенно не представляла, как справляться со своими волосами, но от предложения Вилории обрезать их девушка отказалась. Так что пришлось научиться плести косу самой себе – кривую, растрепанную, но всё было лучше, чем ничего.
Большую часть времени физическая боль и измождение заставляли Эсме почти сразу засыпать. Правда, её нередко будил то гомон на улице, то крик ночной птицы, то проезжающая конная повозка или храп кого-то из соседок, и, очнувшись в глубокой ночи, она уже не могла совладать со своими эмоциями. Страшнее прочего бывали моменты, когда ей вдруг что-нибудь напоминало о старом доме. Она могла услышать внизу ратмирскую речь, увидеть двух заезжих из большого города маленьких сестер, и тогда как будто ударом плавника рыба поднимала муть на дне, и весь окружающий мир погружался в туман – она ничего не слышала вокруг себя и не видела, погруженная в извечные вопросы. Почему сестра оставила их? Жива ли она? Если жива, то неужели ей также тяжело, так же горько и одиноко, или ничто не омрачает её жизнь? Эсме не знала, что для неё хуже – то ли, что Шеманн одна и страдает, или то, что сестра может быть счастливее без неё.
Когда вечер кончился, Эсме поднялась наверх и уже готова была повалиться без сил, но едва она успела дернуть тугой узел на фартуке и выдохнуть свободно, как услышала голос Вилории, звавшей её по имени.
Вилория была из аборигенного народа. Она была похожа на имперку, но только для привыкшей к южанам Эсме; завоеватели-имперцы на раз-два вычисляли в ней кровь коренной жительницы. Со временем Эсме поняла, что дело в более тёмном тоне кожи и разрезе глаз Вилории, несколько у́же, чем у имперцев. В остальном это были те же прямые чёрные волосы и живые, с влажным блеском чёрные глаза. Вилория говорила быстро и с местным акцентом, и большую часть её речи Эсме была совершенно не способна разобрать. Она даже привыкла к тому, что её имя звучит теперь именно так, как произносит его обычно соседка – с ударением на «эс» и почти без окончания. Со временем Эсме стала именовать так себя во внутренних монологах – и, может, называй её Вилория пафосно-торжественно Эсмеральдой, как это обычно делал хозяин заведения, она бы смирилась и с этим. Однако сокращение, данное аборигенкой, нравилось ей больше. К тому же, Эсмеральда было полным именем той девочки, что пришла когда-то устраиваться сюда на работу и чьё место заняла она, по рождению Лира, а теперь смирившаяся с этим прозвищем Эсме.
Тогда Лира бежала от прежней жизни, ища хоть временного приюта, и на её пути оказалась она – девочка семнадцати лет, в лицо которой Лира смотрела, как в отражение в зеркале. Силой Лира забрала у сиротки её место в жизни, ведь не всякий день такая удача: они были похожи внешне, их обеих не знали в этих местах, и по-имперски они обе говорили плохо. И работа, и тёплый угол были нужны обеим, а стать официанткой могла только одна. Настоящей Эсме пришлось уйти, однако Лире, прикинувшейся Эсме для глаз владельца харчевни и служащих, всё равно не хотелось забирать чужое полное имя, когда уже было своё.
Поначалу Эсме, как всегда, ничего не поняла из того, что от неё хотела Вилка. Вилория начала повторять свою речь заново, помедленнее и опуская детали, а также заменяя слова на те, которые Эсме были знакомы. Кое-как они объяснились: оказалось, что через город будет проезжать поезд военных, и среди них будет жених Вилории, о котором та рассказывала Эсме бесконечно. Прежде, чем его, как старшего сына местного князька, забрали на службу, Вилка служила при их доме, и выросшие вместе они до того привязались друг к другу, что не пожелали разлуки до конца своих дней. Мало кто, конечно, одобрял эту помолвку, Вилорию выгнали из их дома, оставили без крова и без копейки, но, как хвалилась сама Вилка, она не так проста. Своего избранника она называла Мадэл, и хоть Эсме и понимала, что это не его имя – имени она так и не запомнила, – сущность этого прозвища для неё долго была сокрыта. Много позже кто-то рассказал ей, что мадэлом тут называли пустельгу, и с точки зрения Вилории это было ласковое и почетное прозвище.
На следующий вечер была смена Динки и Эсме; Вилория на целый день убежала к развилке у города ждать своего суженого. К вечеру она вернулась и долго и упорно уговаривала Динару, чтобы та отпустила Эсме с ней; затем столько же убеждала свою подругу, что уйти не опасно, ведь хозяин уехал в гости до утра, а если вдруг и вернется, то Динка что-нибудь соврёт ему. Эсме боялась. Динка врала неубедительно; она не отличалась умом, и в силу этого она могла учинить подлость, и сама того не заметить. Нередко Эсме приходило в голову, что Динару сложно называть Динарой, это имя ей было не к лицу, её так и хотелось окликнуть просто Динкой, как собаку. Противоположное было с Вилорией: её почти всегда называли Вилкой, но в ней было столько бытового благородства, сентиментальности и остроумия в одно время, что Эсме называла её почти всегда Вилория, на что та плевалась – «отчего ты меня как дворянку!»
Вилка желала присутствия Эсме рядом с ней на пирушке у десятников, в число которых входил и Мадэл. Вилория была уже навеселе, а Эсме, оказавшись между ней и каким-то молодцом со смятым набок носом, только то и делала, что осторожно сливала своё вино в его бокал. Когда взошла луна, он был уже совсем пьян и заснул в конце концов, и Эсме оказалась в незавидном положении. Она никогда не пила, раньше потому, что боялась вызвать неодобрение матери, а сейчас из-за ощущения полной беспомощности среди этих чужих ей существ. Она не понимала, о чём речь, не отличала лица Мадэла от других, но её никто не обижал здесь и не заставлял выписывать пируэты по залу с подносом, так что в целом это было лучше, нежели вечерняя работа в харчевне.
Но стоило Эсме запаниковать и начать искать возможность улизнуть – она уже подумывала о притворном обмороке, – как Мадэл поднялся и выдвинул некую идею. Вилка поддержала его, подхватила Эсме под руку и, заглянув в её ошалевшие от ужаса глаза, сообразила, что Эсме ничего не понятно.
– Всё в порядке, – медленно произнесла Вилория. – Пошли, посмотрим диковинку.
Их вывели во двор, и Мадэл, приятной наружности черноволосый молодой человек, похожий, как брат, на Вилорию и на всех прочих десятников, повёл девушек прочь, в сторону выхода из города. Большая часть обозов военного поезда расположились там, лишь некоторые привилегированные вояки смогли позволить себе снять комнаты в городе. Мадэл, конечно, был в их числе. Он мог бы и вовсе поехать домой, но ссора с родителями и желание остаться с товарищами побудили его держаться в стороне от родных стен.
Дойдя до лагеря, Эсме успела пожалеть, что она отказалась от тёплой постели по расписанию. В этот час уже мало кто сидел в харчевне, и с тех было очень мало толку, поэтому девушки с поварами обычно выгоняли их из харчевни и запирали двери, чтобы спокойно разойтись по своим углам. А из-за затеи Вилории Эсме пришлось почти бегом следовать за привыкшим к скорому маршу Мадэлу и восторженно мчащейся впереди приятельницей.
Первое, что поняла о лагере Эсме, – что он полон пленных. А потом нутром ощутила, что это не просто пленные.
– Карви ведут, – мило пояснил Мадэл, даже сбавивший темп речи. – Имперцы их иначе зовут. Драконы. Страшная сила, в самом деле, с ними сложно найти общий язык. Я не хочу подвергать вас опасности, так что на буйных мы смотреть не будем, лучше на тех, что давно здесь и совсем покорные. Таких редко переводят, однако несколько экземпляров у нас всё же есть.
Между нескольких палаток кто-то бросил грубо отёсанное бревно вместо скамьи. Рядом с ним был потухший костер, и если бы не грохот цепей, то Мадэл бы прошёл мимо, не заметив прикованную к этому бревну женщину. Она уныло грохотала цепью, поднимая и опуская скованные руки и наблюдая, как играют на металле лунные блики. Мадэл издал возглас, всплеснул руками и направился к ней. От приближающегося звука его шагов она встрепенулась, замерла, и, видимо, подняла голову, вытаращив глаза, но в темноте Эсме едва ли могла это разглядеть.
– Идите ближе, – позвал десятник, и Вилория почти потащила Эсме по степной траве поглазеть на пленницу вблизи. – Это одна из них. Видимо, кто-то забыл её здесь, нужно отвести к прочим, не то это не кончится добром. Видите, какая она? Даже не пыталась убежать. Хотя трогать тоже не стоит, – он аккуратно отвел руку Эсме, потянувшуюся к её волосам, – она всё равно зверь, не верьте тому, что видите. Обычно она так и идёт в облике бестии, жуткое зрелище, всё равно, что ящерица, но на длинных ножках и ростом с вашу харчевню. Она и сейчас, если её трогать, может впиться зубами в руку и сверкнуть глазищами, так что лучше не трогайте, милая.
Эсме прижала ручонки к животу и вздохнула. Мурашки бежали у неё по спине при взгляде на эту высокую, сильную женщину; она не была хороша собой, но что-то было запоминающееся и в то же время уже знакомое в её лице. Мадэл светил ей в лицо факелом, и Эсме могла неплохо разглядеть её загнутый нос и крупную верхнюю губу, но глаза, пустые, невидящие, были хуже всего. Эсме знала, что это не от её звериной сущности у пленницы были такие глаза – из неё выбили палками всякий смысл и живость. Эти глаза, холодные и непроницаемые, без малейшего выражения, напоминали Эсме кусочки зелёной слюды.
И от этого Эсме и хотелось погладить пленницу по тёмно-каштановым волнистым волосам – хоть немножко, хоть на минутку дать ей знать, что она не одна в этом свете. Вид её страдания только убеждал Эсме в необходимости всеми силами беречь её собственную жизнь и свободу. «Вот что бывает с драконессами, когда они молоды и неосторожны, – говорил ей голос разума, – вот тебе живой пример».
– Самое главное в их бесовской сущности – крылья, это известно, – продолжал разглагольствовать Мадэл. – Поэтому мы рубим им крылья. Не всем, как я знаю, но большинству, тем, что проблемные. У этой крыльев уже нет, и мне много чего страшного про неё рассказывали. Она передавила и пожрала несметное число людей. Раньше её пускали на поле боя, так она могла одна, кажется, смести хвостом целую армию. У неё два рога было, на подобие оленьих, так она об решётку обломила себе один – хотела прутья сломать, а не вышло. Потом присмирела и помешалась. С ней раньше даже поболтать было можно, мне тысяцкий сказывал, как он по юности с ней забавлялся. Он ей кинет кусок хлеба, а она пнёт горбушку и поливает его какой-то своей бранью. Носится, бесится, а как оголодает, сама же ползет к этому хлебу и плачет. Говорят, лошадей тяжело обуздывать. Ха! А вы попробуйте иметь дело с карви. Не пожалеете.
– А что она делает сейчас? – поинтересовалась Вилория.
– Всё больше чахнет по темницам, что ей ещё делать. Сейчас на постройку храма её везём, будет вместо коней, пока не издохнет.
Пленная, которая всё это время напряженно слушала, опустила глаза, видно, заболевшие от света огня, и снова принялась играть цепью.
– У неё есть имя? – опять задала вопрос Вилка.
– Обычно её тут зовут просто чернявая, – пожал Мадэл плечами. – Может, имя и есть. Кто же у неё интересовался. Эй! – он ткнул её в плечо, на что она вздрогнула, втянула голову в плечи и растянула губы в оскале. – Не греми. Не греми, поняла? Раздражаешь.
Эсме растерянно смотрела на эту женщину и думала о том, кем она могла бы быть раньше. Официантка прислушивалась к своим внутренним голосам, но для неё звучала только одна фальшивая нота, что-то вроде детского пения-бормотания, перемежающегося с редкими разумными, связными фразами, которые тяжело было разобрать. Скорее всего, чернявая просто сдалась окончательно. Причём сдало не тело, как это ощущала на себе Эсме, – рук пленницы, пойманных светом огня, было достаточно, чтобы понять, что даже в таком положении она остается сильна, здорова и вынослива, – а только замученный, зажатый в тисках разум. Но что-то подсказывало Эсме: сознание в этой драконессе ещё остается. Это ещё не совершенно подавленное животное.
– Пойдёмте, отведем её к другим, – десятник дернул за цепь, и в её звоне Эсме показался оттенок близкой смерти. Она заглянула в лицо Вилории, но та ничуть не изменилась, всё такая же приободрённая. Мадэл был совершенно занят своим представлением с пленной. Чернявая не желала вставать, а он уговаривал её и тянул, как упрямую козу.
– Я вернусь домой, – покачала головой Эсме. – Мне нехорошо.
– Дойдешь сама? – обеспокоилась Вилка. Эсме кивнула, и её отпустили на все четыре стороны.
Спустя несколько месяцев пришла весть о том, что этот поезд был атакован неприятелем; Мадэл убит, как и многие прочие. Вилория изводила себя, кричала, что это сплетни, сожгла подаренное женихом платье в доказательство о том, что он не умер и подарит ей ещё сколько угодно таких платьев. Однако скоро привезли его родители мёртвое тело, но отчего-то Эсме совсем не могла сочувствовать горю соседки и получала справедливые упрёки.