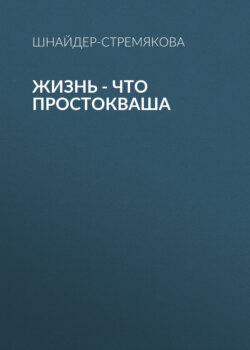Читать книгу Жизнь – что простокваша - Антонина Шнайдер-Стремякова - Страница 39
Книга первая
Звонок из комендатуры
ОглавлениеСубботний день конца января 1953-го. Закончились занятия первой смены. На выходе из класса Эрика Георгиевна, «классная», задержала меня.
– Из НКВД звонили, велели тебе явиться.
– Зачем?
– Ты что – не знаешь?
– Нет, а что я должна знать? Что я такого наделала?
– Ты в самом деле не знаешь, из-за чего?
– Ну, конечно же, не знаю!
– И родители ничего не говорили?
– Эрика Георгиевна, я не была дома уже больше месяца, давно родителей не видела, что вы меня пугаете?
Она улыбнулась:
– Не думала, что не знаешь, – и, глядя в глаза-копейки, обняла. – Похоже, родители, оберегали тебя…
– От чего?
– Не пугайся. Ты – немка, а все немцы, достигшие 16-летнего возраста, каждый месяц пятого числа отмечаются в комендатуре – являются на регистрацию и перерегистрацию.
– А-а-а! Во-от оно что! – с чувством выдохнула я. – Никуда не пойду: не преступница, да и нет мне ещё шестнадцати!
– Могут возникнуть неприятности.
– Посмотрим! – вырвалось жёстко-угрожающе, и, не попрощавшись, я направилась к выходу, демонстративно подчёркивая, что разговор окончен.
– Тоня, прошу, сходи!
– Нет! – зло, в пол-оборота, бросила я, удаляясь, будто виноватой была она.
Неделя прошла в ожидании – никто не беспокоил. В следующую субботу за нами опять приехали. Три длинных тулупа, чтобы они согрелись, занесли в школу. Так как я от школы жила ближе других, возчик зашёл к хозяйке попить чайку и погреться.
Через час сани скользили по укатанному снегу в сторону Степного Совхоза. Мороз был не менее тридцати, ноги в старых, не раз латаных валенках мёрзли.
– Давайте к тёте Марусе заедем – погреться. Ведь по пути, через Кучук едем! – просила я возчика.
– К нашему приезду мать Маши вытопит баню, надо успеть, а завтра в обед – назад.
– Ненадолго же! Самое большее – полчаса.
– Скоро темнеть начнёт. Сбрасывай тулупы, кто замёрз, и бегом за санями!
В длинных тулупах мы с Машей тяжело шагнули на снег, быстро согрелись, взобрались на сани, придвинулись плотнее друг к другу и не заметили, как задремали. Очнулись, когда вдали мигали одинокие огни.
Открыла дверь в маленькую кухоньку, и на мне, соскучившись за месяц, повисли малыши. Мама и альтмама обнимали, папа Лео услужливо дожидался очереди. Поужинали, и мы с матерью отправились в баню – своей у нас не было.
– Ничего не говорила? – задумчиво в банной жаре спросила она, когда я рассказала о разговоре с Эрикой Георгиевной. – Думала рано, но сходить надо!
– А зачем вызывают, если ещё не подошло время!?
– Почём мне знать? На летних каникулах школа не работает – может, поэтому?
– Целых полгода ещё! Не пойду!
– Не напрашивайся на неприятности!
– Если пойду, то только затем, чтобы сказать, что ни за что не явлюсь больше!
– Но в этот раз сходи.
Учебная неделя началась в напряжённом ожидании. В субботу после занятий девственная Эрика Георгиевна вновь остановила меня.
– Ты мне нужна, зайдём в учительскую.
– В учительскую?
– Там никого нет и долго никого не будет, а в класс зайдут сейчас ученики второй смены.
Мы сели за стол друг против друга, и я заметила её красные глаза. В напряжённом молчании она сдерживала рыдания. «Не знает, как лучше начать,» – безжалостно отметила я, наблюдая её растерянность. Худенькая, слабенькая, жалкая «классная» тихо начала:
– Я только что из кабинета директора школы…
– Но он же добрый!
– Да, добрый, но ему по поводу тебя звонили из комендатуры. Роман Васильевич сказал, что если сейчас туда не сходишь, он уволит меня. Если он этого не сделает, уволят его. Подумай, ты подставляешь не только меня.
– Но это несправедливо!
– А что я могу сделать? Пожалей меня, Тоня! Я ведь тоже туда хожу!
– Вы-ы? Зачем? – глупо удивилась я.
– Как зачем? Я тоже немка!
– Вы-ы – не-емка?..
– А ты не знала?
– Нет, никто ни разу не обмолвился, – я глядела на неё с жалостью. – Хорошо, Эрика Георгиевна, схожу. Обязательно схожу, но скажу, чтобы вас из-за меня не трогали!
– Надеюсь. Спасибо.
Сани в субботу уезжали без меня. Разгневанная, я забежала после занятий на квартиру, бросила сумку на стул и, не пообедав, поспешила в комендатуру. Пробежала длинный его коридор, без стука открыла какой-то кабинет. За столом лицом к двери сидел широколицый мужчина лет сорока-сорока пяти в военной форме.
– Вы комендант? – резко и вызывающе спросила я в дверях.
– Это что за манеры? Ты кто такая? – раздался властный голос.
Я дерзко выпалила:
– Кто такая? Шнайдер Тоня, ученица девятого «в» класса!
Он поднялся, вышел из-за стола, подошёл и, презрительно измерив, властно-тихо приказал:
– Закрой дверь!
Я не сдвинулась.
– Ещё молоко на губах, а спеси-то! – и, обойдя вокруг, медленно закрыл дверь. – Не понимаешь, что тебя судить надо?!
– Ой, как страшно! Судите! Только вот за что?! – не сбавляла я «спеси».
– Найдём за что – за это самое!
– Я только затем пришла, чтобы сказать: больше не вызывайте – не-е приду! Ни-и-когда! И не тревожьте директора школы и классную руководительницу – не подчинюсь!
– Мы их с работы уволим!
– А я школу брошу!
– Молчать! – закричал он, и внутри что-то оборвалось, тем не менее в тон прокричала ему:
– Это вы молчите! Почему я обязана каждый месяц сюда ходить? За какие грехи?! Я не преступница! Если родители в чём-то виноваты, пусть они и отвечают! Но я спрашивала – они не виноваты! Я им верю! Так почему и за что я должна расписываться? Не-е при-ду! Делайте что хотите! Хоть убивайте!
– Это ты так говоришь, – чуть понизив тон, сказал он, – что не видела смерти, не видела, как пытают, мучают! Не такие ломаются – просят сохранить жизнь! Никто не хочет умирать! Ты ещё ничего не видела, ничего не знаешь, а как поставят под дуло, совсем по-другому заговоришь!
«Что за чепуху он несёт? Пытали и мучили в царской России, а в Советском Союзе отношение к преступникам гуманное! Об этом мы с первого класса слышали! Надо показать, что не испугалась, что не похолодело где-то внутри…»
– Не заговорю! Выводите во двор, в палисадник! Не страшно – стреляйте! Я, может, и жить-то не хочу! Не хочу такого унижения, такого позора, такого стыда! Что одноклассникам скажу? Хожу, – значит, виновата? Неправда! Не ви-но-ва-та! Ни в чём! Понятно?! – орала я, напрягаясь.
Вдруг откуда-то подступила тошнота, ноги сделались ватными и исчезла ясность мысли… Качнуло… Дрожь в ногах… Попить бы!.. Боясь потерять сознание и упасть, прислонилась к стене и ухватилась за ручку двери. В углу на трёх ножках заметила венский стул. «Стул нормальный поставить не могут… Преступники, наверное, должны стоять. И по команде смирно! Прислони к стенке и скажи спасибо, что посидеть разрешили», – возмущённо прыгало в голове.
Жестикулируя, комендант кричал, но, мобилизуя волю, чтобы не упасть, я не слушала. Остановившись напротив и искоса взглянув на меня, он вдруг удивлённо замолк.
– Тебя не бьют – только отчитывают, а уже побледнела! – донёсся, наконец, его голос. – Не хорохорься – распишись! Не строй из себя героиню!
Головокружение медленно отступает, силы возвращаются, но кричать уже нет сил.
– Расписаться, – говорю я тихо, – значит, признать вину. Не распишусь. И не надо пугать пытками. Вы клевещете. В советских тюрьмах нет пыток! В нашей стране гуманно относятся к людям!
Он спохватился: по лицу пробежала тень – видимо, понял, что сказал лишнее.
– Ну, конечно, нет пыток. Просто… я хотел припугнуть, – и заговорил совсем миролюбиво. – Уж раз пришла, распишись. Эти списки просматривает вышестоящее начальство. Ну, что тебе стоит?
Спокойный тон подействовал сильнее криков – такая обида подкатила, что из горла вырвался взрослый грудной плач. Я отвернулась и в ладошках спрятала лицо.
– Ну вот, уже плачешь… Распишись за январь, а пятого февраля снова придёшь.
– Не распишусь! Никогда… Ни за что… Я не совершала преступлений! – прорыдала я.
– А кто говорит, что совершала? Разумеется, ты не виновата, но так положено… Таков закон.
Хотелось остановить рыдания – не получалось. Раскалывалась голова. Новый приступ тошноты и слабости… Нет сил стоять.
– Хорошо, – тихо решилась я, – только это будет моя первая и последняя роспись. Больше можете не стараться – не приду. Мне без разницы, кто пострадает: директор, учитель, родители, я сама, вы…
Не простилась и вышла в слезах, не зная, куда. Неожиданно встретился из десятого «а» Коля Галушко, моя тайная любовь. Он удивился: «Что с тобой?..» Я не дослушала и, пряча голову, рванулась, прочь.
Заявляться в таком состоянии к хозяевам не хотелось. Вытаскивала из ресниц слёзы-льдинки, из-за которых образовывалась сплошная пелена, медленно двигалась за аллеей центральной улицы – подальше от случайных знакомых.
Смеркалось. Замёрзшей и уставшей, мне хотелось участия. Порывшись в памяти, нашла единственного человека, перед которым можно было выплакаться, – Боргенс Амалию Петровну, учительницу немецкого языка, красивую женщину с пышными тёмно-русыми волосами, одной растившей троих дочерей – одну краше другой. Головная боль не утихала, к Боргенс было далеко, и я побрела на квартиру. Хозяйка с матерью добеливали кухню. Место, где стояла моя кровать, было уже чисто.
– Ты где это пропадаешь? – поинтересовалась хозяйка.
– В школе, – выговорила я, с трудом сдерживаясь.
– Случилось что?
Повертела головой, сняла пальто, шаль и легла, отвернувшись к стене. Одеяло не скрывало дрожи.
– Кто тебя обидел? – приподняла хозяйка одеяло.
Я молчала.
– Скажи, легче будет.
– Не могу-у! – задохнулась я.
– Мам, найди валерьянку.
Выпила микстуру – успокоилась не скоро. Чтобы снять стресс, надо было выговориться, но… рассказывать, как меня ни за что ни про что обидели, было стыдно и унизительно. Да и хозяйка, заведующая отделом пропаганды райкома партии, навряд ли поняла бы. И я решила исповедаться перед главным человеком страны, уверенная, что он поможет. Молча, несмотря на головную боль, поднялась и полудетским почерком излила все мысли, что собрались в голове: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Вы меня не знаете, мне пятнадцать с половиной лет, я ученица девятого «в» класса Родинской средней школы – Шнайдер Тоня, немка по национальности. Только что пришла из комендатуры, куда меня вызывали…»
Исписала пять плотных страниц мелким почерком, и сегодня многое отдала бы, чтобы в архивах НКВД нашлось то письмо.
Хозяйка несколько раз подходила и, заглядывая со спины, пыталась понять, о чём пишу. Кудрявой головой и плечами я, как могла, закрывалась, но она, видимо, всё же что-то прочла – отошла и зашепталась с матерью.
– Тоня, будешь кушать?
– Нет.
– А что пишешь?
– Уроки.
О наивности письма, которое сочинялось до четырёх утра, я не думала. В нём было что-то о декабристах, Радищеве, о том, что дети не должны отвечать за проступки родителей и наоборот. Заканчивалось оно обращением к дорогому Иосифу Виссарионовичу с просьбой разобраться, почему через долгих семь лет после окончания войны дети-немцы должны продолжать посещать комендатуру? «Это унизительно и несправедливо! Мы хотим учиться, чтобы впоследствии использовать знания на благо Родины».
В воскресенье утром пошла за советом к Амалии Петровне, жившей в противоположном конце села. Шла, оглядываясь: «А если следят?»
– О-о! Кто пришёл! Какими судьбами? – удивилась она, открывая дверь.
– Извините, но мне очень надо…
– Случилось что?
– Мне нужен ваш совет – наедине.
Она проводила детей в горницу, и мы остались в прихожей-кухне вдвоём.
– Амалия Петровна, я Сталину письмо написала…
Она повела бровями.
– Хотелось бы вашего совета… нужно отсылать или нет?
– Ты настолько мне доверяешь?
– Да.
– Может, скажешь, что произошло?
– Прочитаете – и всё поймёте.
– Ну, хорошо.
Читая, она улыбалась, кивала в знак согласия, возвращалась к написанному и опять читала. Отложила листы и выдохнула:
– Ну и ну! Не ожидала от тебя… не думала…
– Что? Глупо? Смешно?
– Да нет, не о том я – считала тебя глупенькой, маленькой, а ты вон что выкинула! Оказывается, у тебя взрослая, зрело и серьёзно мыслящая головка!
Я облегчённо вздохнула.
– Очень хорошее письмо! Ты пишешь только о себе, своих мыслях, чувствах. Немножко наивно, но это и хорошо! Замечательно, что чувствуется детская душа! Никого из взрослых, даже коменданта, не называешь… Если бы написала по-другому, было бы похоже на предательство. А здесь предательством и не пахнет!
– Так надо посылать или нет?
– О-бя-за-тельно надо! Нам, взрослым, нельзя, тем более учителям. Вам, детям, можно, вам простительно. Пусть знают!
– Спасибо, Амалия Петровна, только я адреса не знаю.
– Напиши: Москва, Кремль, товарищу Сталину.
– И дойдёт?
– Должно. Хорошо бы с уведомлением, но не отправят, – и, раздумывая. – Кто его знает?
– А что такое «уведомление»?
– Это почтовая открытка такая. В ней адресат должен расписаться, что письмо получено. Конечно, не сам Сталин распишется, а кто-нибудь из канцелярии. Знаешь, отправь лучше заказное письмо!
От Амалии Петровны вышла я окрылённая, почти успокоенная. Зашла на почту, попросила уведомление и отправила заказное письмо. Почтальонша в тёмной шали проводила меня подозрительно.
…Уведомление принесли на второй уже день. Увидела на нём какую-то каракулю и выловила на перемене Амалию Петровну. Испуганно озираясь, она его в руки не взяла – мельком взглянула и быстро заговорила:
– Убери, затолкай поглубже в рукав! Иди рядом, будто о школьных делах разговариваем. Шепоток пронёсся по учительской… о каком-то письме говорят… Я сразу догадалась. Будь осторожна. Уведомление, конечно, в Москве не было, письмо задержали. Слышала обрывок разговора: «Не могла она одна это написать!» Переполошились все. Не обижайся, Тоня, но к нам пока не ходи. До свидания.
Любимица учеников, жизнерадостная и весёлая Амалия Петровна была озабочена! Это впечатляло… Я многого не понимала, об идеологии понятия не имела, только удивлялась, почему мама никогда не разрешала заворачивать передачки отца в газеты, попадавшие какими-то путями к нам в дом. На недовольные вопросы io-n-летних девчонок, отчего нельзя, отвечала коротко:
– Мы газеты не выписываем.
– Ну и что? У нас и тряпок нет.
– Найдём что-нибудь.
И только, уже будучи взрослой, поняла, что мать, ничего не разъясняя, молча оберегала нас: портрет Сталина украшал каждую страницу газеты. Иногда на странице было и по два Сталина: один вверху – в левом углу, другой внизу – в правом.
Надеясь на ответ из Кремля и полагаясь на товарища Сталина, который во всём разберётся и не даст в обиду детей и даже, возможно, прикажет уничтожить несправедливость, унижавшую человеческое достоинство, я с нетерпением ежедневно выглядывала почтальона.
Как-то Амалия Петровна заметила меня на крылечке и задержалась.
– Что нового, Тоня?
– Ничего, жду.
– А мне теперь спокойнее.
– Я, вроде, ничем вас не подвела…
– Нет, нет, конечно… Просто я испугалась, что тебя выследили. Но испуг мой был напрасным. Оказывается, появились ещё письма. Ещё кто-то писал.
– Да вы что? А кто?
– Не знаю. Да и узнать невозможно, ни кто писал, ни о чём писал. Русские учителя шепчутся – кое-что и до меня долетает. Но… не буду же я расспрашивать!
– Ну да…
– Я спешу, извини. Всего доброго! До свидания.
– Кто? Кто? Кто? – мучилась я, перебирая знакомые фамилии, но никого не находила. Дети свою национальность не афишировали – догадаться по фамилии не хватало знаний. Однако, мысль, что в Кремль писала не одна только я, грела душу – значит, есть, несмотря на разобщённость, единомышленники!
Следующий месяц – пятого февраля – я в комендатуру не пошла, за что дома получила нагоняй. Меня никуда не вызывали – душа ликовала! Молча…