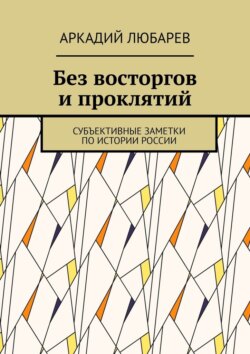Читать книгу Без восторгов и проклятий. Субъективные заметки по истории России - Аркадий Любарев - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Вторая половина 19-го века
К чему приводит неправильная оценка ситуации16
ОглавлениеПродолжаю тему, начатую одним из предыдущих постов – параллели со второй половиной 19-го века – тема, навеянная впечатлениями от мемуаров Анатолия Кони и Петра Кропоткина.
С памятного февральского дня меня преследует известное четверостишие Губермана:
Где лгут и себе и друг другу,
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови – по грязи – во тьму.
И я вновь обращаюсь ко времени Великих реформ. Для меня это первая попытка сделать Россию цивилизованной страной. Вторая была в 1905—1917, третья – в 1989—1999.
Реформы шли непоследовательно, либерализация сменялась реакцией. И одним из поводов для реакции стал выстрел Каракозова в 1866 году.
Раньше я не задумывался, были ли у Каракозова какие либо рациональные мотивы, помимо жажды наказания императора за непоследовательность. Но вот Кропоткин пролил на этот вопрос немного света. Впрочем, сам он не был знаком с Каракозовым, и это его догадки, основанные на знании атмосферы тех лет. Вот что он писал:
«В период времени 1862—1866 годов политика Александра II приняла решительно реакционный уклон. Царь окружил себя крайними ретроградами и сделал их своими ближайшими советниками. Реформы, составлявшие славу первых лет его царствования, были изуродованы и урезаны рядом временных правил и министерских циркуляров. В лагере крепостников ждали вотчинного суда и возвращения крепостного права в измененном виде. Никто не надеялся, что главная реформа – освобождение крестьян – устоит от ударов, направленных против нее из Зимнего дворца. Все это должно было привести Каракозова и его друзей к убеждению, что даже то немногое, что сделано, рискует погибнуть, если Александр II останется на престоле, что России грозит возврат ко всем ужасам николаевщины. В то же время возлагались большие надежды на либерализм наследника … (будущего императора Александра III)».
Теперь мы прекрасно понимаем, что негативные опасения в отношении Александра II были преувеличенными, а позитивные представления о либерализме будущего Александра III просто ошибочными. И если Каракозов действительно руководствовался этими соображениями, то это яркий пример того, к чему приводит неправильная оценка ситуации. Ибо его покушение способствовало усилению реакции – это всем очевидно. Не будь покушения, реформы, вероятно, смогли бы пойти дальше.
И то же самое можно сказать об удавшемся покушении 1881 года. Понятно, что репрессии 1876—1880 годов дали народовольцам повод для мести. Но тут опять вопрос о рациональных мотивах. Я вспоминаю прочитанный в молодости роман Юрия Трифонова «Нетерпение». Автор безусловно читал документы того времени и мемуары и пытался понять мотивы этих людей. Насколько я помню, из книги возникало представление о том, что они верили: убийство императора спровоцирует революцию. Очевидная ошибка. Оно спровоцировало реакцию, и вряд ли могло быть иначе.
Какими бы благородными ни были цели Каракозова и народовольцев, их действия привели к последствиям, прямо противоположным тому, что они хотели.
Впрочем, любопытно и то, что Кропоткин написал о Софье Перовской, которую он знал в 1872—1874 годах. Он писал о ней с огромной симпатией, можно сказать, преклонялся перед ней. И он приводит ее фразу: «Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придется лечь на нем, но сделать его надо». Впрочем, дальше он отмечает, что в то время еще никто не думал об эшафоте.
Не знаю, многие ли думали тогда о «двух поколениях, которым придется лечь». Из чтения различной литературы (тут можно, в частности, вспомнить роман Тургенева «Новь») у меня создалось впечатление, что большинство народников верили в скорую, даже очень скорую революцию. И в романе Юрия Трифонова, мне кажется, самое лучшее – это название. «Нетерпение» – это, видимо, то чувство, которое было главным двигателем революционеров 1870-х.
А революция произошла не на следующий день, а лишь через 24 года после взрыва на Екатерининском канале (и через 33 года с того момента, когда Петр Кропоткин решил посвятить себя революционной деятельности). И закончилась поражением. Новая революция произошла еще 12 лет спустя…
В те годы моей молодости, когда я читал книгу Юрия Трифонова, я все оценивал иначе. Да, прошло 36 лет, но, как сказал по другому, хотя и близкому поводу вождь Октября, «их дело не пропало». Революция все же произошла, и они ее приближали.
Теперь мы видим, что это был лишь очередной виток «из крови – по грязи – во тьму».
Это, конечно, отдельная большая тема – отношение бывших народников к большевистскому режиму. Николай Чайковский был одним из руководителей белого движения. Марк Натансон, будучи одним из лидеров левых эсеров, первоначально поддерживал большевиков, но вскоре в них разочаровался (но он умер в 1919-м). Петр Кропоткин и оставшиеся в живых народовольцы были обласканы советской властью, но сами они относились к ней скорее сдержанно. Впрочем, Кропоткин умер уже в 1921-м. Дольше прожили три народовольца – Михаил Фроленко (до 1938-го), Вера Фигнер (до 1942-го) и Николай Морозов (до 1946-го). Из них только Фроленко в конце концов вступил в ВКП (б), в 1936-м, уже в 88-летнем возрасте. Пишут, что они пытались вступаться за репрессированных. Они писали воспоминания, но что они на самом деле думали о большевистском режиме, мы, вероятно, не узнаем. Да и возраст был уже немалый для ясного мышления.
Можно, попытаться представить, что подумали бы революционеры 1860-х – 1870-х, попади они молодыми в советскую систему. Но это уже будет жанр фантастики. Впрочем, помнится, у Юрий Полякова в «Апофегее» приводилось содержание некоего фантастического романа, где революционер попадает в эпоху застоя и понимает, что боролся не за то.
Но я вернусь к Петру Кропоткину. Он мог стать великим ученым, уже в 30 лет он был вполне состоявшимся исследователем-географом и наверняка пошел бы гораздо дальше. Но он сознательно отказался от научной карьеры. Вот что он писал тридцать лет спустя:
«Наука – великое дело. Я знал радости, доставляемые ею, и ценил их, быть может, даже больше, чем многие мои собратья. И теперь, когда я всматривался в холмы и озера Финляндии, у меня зарождались новые, величественные обобщения… Мне хотелось разработать теорию о ледниковом периоде, которая могла бы дать ключ для понимания современного распространения флоры и фауны, и открыть новые горизонты для геологии и физической географии.
Но какое право имел я на все эти высшие радости, когда вокруг меня гнетущая нищета и мучительная борьба за черствый кусок хлеба? Когда все, истраченное мною, чтобы жить в мире высоких душевных движений, неизбежно должно быть вырвано из рта сеющих пшеницу для других и не имеющих достаточно черного хлеба для собственных детей?»
В другом месте он писал: «Несколько молодых людей, из которых вышли бы блестящие профессора, выдающиеся историки и этнографы, решили в 1864 году стать, несмотря на все препятствия со стороны правительства, носителями знания и просвещения среди народа».
У меня нет сомнений, что если бы Петр Кропоткин и другие молодые талантливые люди посвятили бы свою жизнь науке, они гораздо больше сделали бы для того самого народа, ради которого они пожертвовали своей научной карьерой и стали революционерами. Но они верили в скорую революцию, и им казалось, что революционная деятельность даст быстрые позитивные результаты. Но быстрых результатов не получилось, да и то, что получилось спустя полвека, позитивными результатами назвать трудно.