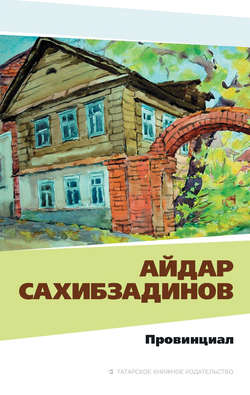Читать книгу Провинциал. Рассказы и повести - Айдар Сахибзадинов - Страница 24
Рассказы
Родительское собрание
Оглавление«Все желают смерти отца!»
Ф. М. Достоевский
1
Впервые я столкнулся с этим, когда умер отец Наташи Барейчевой, которую знал со времён букваря. Высокая, тонкая, в чёрных рейтузах, она стояла первая на уроках физкультуры, усердно маршировала, высоко поднимая коленки. До отроческих лет я стыдился её высокого роста, рогов из косичек, щели в зубах, больших «прощаек», а ещё вздёрнутых ягодиц и семенящей походки. Её окликали: «Наташа!», – и она подходила тотчас – шажками, покачивая головой, как китайский болванчик. Губы потресканы и до того пухлы, что она не могла их ровно сложить, будто запихала в рот пригоршню конфет. Вот её пальцы, с глубоко подрезанными ногтями, держат кончик моего пионерского галстука – комсомольский значок – чёрную бабочку выпускника. Поясняя, она тычется грудью в грудь, с печальной задумчивостью смотрит в сторону, лицо её в такую минуту бледно, нижняя губа влажна и трогательно отвисает.
Высокий рост её не смущал. Она будто заранее знала, что сдаст в старших классах, и безоглядно добавляла к макушке узел конского хвоста, который бестолково болтался при поворотах головы, создавая впечатление рассеянности и легкомысленности. Между тем она была аккуратна и старательна: тщательно отглаженная форма и белый воротничок; учебники и тетради в безукоризненной чистоте. А производству письма она даже в старших классах отдавалась душой и телом, как первоклашка: голова на плече, язык наружу, позвонок изогнут, а длинные ноги, в модных ажурах чулок, свиты, как пара ужей, – улезают в соседское пространство под партой.
Выставленный язык – признак ябед-сибариток; однако Наташа не ябедничала, даже не язвила. И если её жестоко обижали, уходила в сторону и, опустив глаза, бормотала: «Дурак какой-то…».
Наташа была первым и единственным человеком в классе, у которой умер отец.
Тогда ей исполнилось четырнадцать, кончались летние каникулы.
Ночь она провела на нашей улице, у подружки своей Гали Бочкарёвой, жившей напротив моего дома. Я привык видеть Наташу в школьной форме, а тут, по летней поре, она была в трикотажной кофте, короткой юбке и кедах. За лето она повзрослела: уже не хвост и не пара кренделей в бантиках, а – коса, пенькового цвета вервь, в пушке выгоревшая, толсто выплеталась от темени. Серая кофта выразительно подчёркивала талию, покатые плечи, и особенно – хорошую грудь.
Наташа до вечера простояла у палисада, наблюдая, как дети играют в штандары. Улица знала о её несчастье, и все действия младших девочек: прыжки, увиливание от мяча и удар водящей, – всё искало внимания старшеклассницы, пользующейся здесь симпатией. А отроки, тот возраст, который дуреет в присутствии девушки с выпирающей грудью, – жёстче били резиновым мячом о забор, чаще оборачивали раскрасневшиеся рожи в сторону палисада.
Когда начало садиться солнце, Наташа опустила голову и пошла к воротам… И было видно, как сразу устали девочки, как сдулись мальчишки, стала в тягость игра. Соединив пальцы рук, девочки выворачивали ладони над головами и, вытянув их вверх, отдыхали. Мальчишки запинули мяч в огород и тоже бродили по полю, дурацки шатаясь и расслабленно потрясая руками…
Я сидел за окном, прикрытый тюлем, и смотрел на Наташу: бывает такое – притянет, сидишь и смотришь. Но вот она ушла, мелькнул затылок, подошва кеды, и стало грустно… Закат ещё горел в листве пирамидальной груши, мерцал, как под шлаком магма, и далеко на западе распадалась полоска подгоревшего облака…
Я думал о её горе. Вспоминал её отца, которого всего один раз видел. Он стоял в яблоневом саду, упёршись ступнёй в поребрик, и смотрел в крону яблони. Клетчатая рубашка как-то неровно скрывала его тучность, уродливо выпирала в боку – и мне казалось, что именно эта телесная несуразность как раз и стала причиной роковой несовместимости…. Теперь он лежал на улице Привольной, грудился на одре, как страшная тайна, с опухолью в боку, с одутловатым лицом, обретал потусторонний цвет. У ворот стоял гроб, крест, с прибитым к нему венком – и нечто жуткое ощущалось в том, что к той сакральной ауре у ворот, пугающей прохожих, именно Наташа имела прямое, органическое отношение.
Утром Наташа глянула на меня исподлобья и пошла, едва кивнув на слова о соболезновании. На бледном лице – не боль, не горечь, а блёклая скука, печаль отчуждённости. Обычно отзывчивая, чувствительная, и вдруг при смерти отца – такая нелепая безучастность… Лишь много лет спустя я понял, что эта скука в её глазах, непотрясённость, – отображали лишь глубину юного женского эго, замкнутость девочки-подростка, в душе которой уже начало формироваться отчуждение от отца в силу полового созревания.
Я с детства думал о смерти моего отца. Иногда брал в руки его ладонь, тяжёлую, венозную, со стёртыми кольцами светлых волос – и ощущение, что эта рука, живая и сильная, когда-нибудь станет прахом, истлеет в могильной земле, не укладывалась в голове. Я боялся смерти родителей, предпочитал умереть раньше их.
Вот отец играет с соседом в шахматы: породистый череп и лучистый прищур, зачёсанная за уши волнистая седина, отросшая к вечеру на тяжёлом боксёрском подбородке щетина. И эта со вздутыми венами и закрепощёнными мышцами рука… Я, ещё мальчик, наваливаюсь на руку грудью, пытаюсь с силой вогнуть внутрь его железные пальцы, вот кажется, ему больно… Но отец, не отвлекаясь от игры, легко поворачивает кисть, высвобождает руку.
Они сидят под старой яблоней. На столе фужеры и шпроты, посеревший от августовского суховея хлеб в резной тарелке. Не сразу видна большая бутыль с янтарным яблочным вином, стоящая под деревом. Вина отец нынче выжал много, в сарае ещё две бутыли. Передерживать яблочное вино нельзя, месяца через три оно даст привкус уксуса и грусти. И в августе череда алкоголиков, когда отец добр, угощается во дворе – тянет из пиалы терпкий напиток. Я снизу смотрю, как дёргаются щетинистые кадыки и шевелятся уши, а по щекам между глотками судорогой проходят волны благодарности.
Вот я тайно вдыхаю табачный дым, болею за отца, строю «съеденные» фигуры вдоль шахматной доски и преданно сшибаю пепел с его папиросы. Кольца «Беломора» синие, для обоняния ощутимей и острей, чем сизоватый сигаретный дым от «Авроры» дяди Коли, и я, нагибаясь вновь, будто по надобности, тайно втягиваю ноздрями летающие шлеи, довольный безнаказанностью. Отец не замечает, он весь в игре, теперь я снова борюсь с его рукой, задираю рукав рубашки, разглядываю изувеченное предплечье так, чтобы видел дядя Коля, бывший во время войны мальчишкой.
– Папа, это – в Белоруссии? – спрашиваю я.
Отец не слышит, говорит: «Погоди…»
Тычусь носом в его плечо, обоняю запах ветшалой рубашки: так пахнет только папа… Краем глаза вижу траву, она колышется под яблоней, плывёт, как вековая дрёма, – и я думаю: а почему он – папа?.. Вдруг кажется мне совершенно чужим этот крупный, с мощной бочкообразной грудью беззащитный человек, в смертельной тоске я ощущаю своё вселенское одиночество, какую-то печальную избранность в этом мире…
– Пап, а ты был маленький?
То, что этому человеку было когда-то десять лет и он был пионером, я не могу представить, как и то, что он когда-нибудь умрёт.
– Ну был?!.
Вытянув руку, отец делает ход, вероятно, удовлетворительный.
– Под Житомиром, – отвечает он, наконец, и не глядя вытряхивает из пачки новую папиросу.
2
Нам уже шестнадцать. Я знаю наизусть половину Пушкина, год штудировал Льва Толстого и летаю во снах то в «Войне», то в «Мире», каждый шаг мой сопровождается голосом Толстого: «Князь задумался… князь пропустит физкультуру…»
Весь урок Наташа оборачивается назад (я сижу за нею) – и образ её: у виска букли, странные прищуры с задумчивым наклоном головы, как-то по-новому подведённые глаза, – всё говорит о перемене в ней. Теперь на её книжных закладках, полях тетрадей выведено имя потрясающего певца. Он вытеснил из её сердца Миколя, любовника Анжелики, который в своё время затмил четвёрку «Битлз». Что поделаешь с женским сердцем! Оно отрекалось даже от Наполеона, и ни штыки, ни гаубицы, ни развёрнутые ряды гвардии, в «шитых мундирах», ни даже трагедия под Вартерлоо не в силах ни принудить, ни разжалобить это сердце. Теперь каждый день после уроков Наташа бежит по коридору – мимо поникшей четвёрки «Битлз», смазливого Миколя и израненного Жофрея – в столовку, бросает в пакет пирожки и, вероломная, отвратительная в своём новом счастье, быстренько семеня – на ходу запихивая пирожки в портфель, спешит на свидание с новым гением. О, она влюблена до слёз!
– Он любит Бланку. Но она – жена его брата, а брат – композитор.
– Бланка?
– Её зовут Бланка, это имя. Он – Рафаэль. Ты знаешь… – она задумывается, опускает голову. – Ты должен пойти.
Мы едем в трамвае, она сидит, я стою рядом, держусь за поручень у её изголовья. Она поглядывает на меня из-под белой песцовой шапки и после каждой отпущенной фразы нежно разглаживает варежкой подол своего пальто, словно в подтверждение нежности своих мыслей. Лицо её доверчивое и домашнее, при этом очень бледное, и порой мне кажется, что она моя жена. Существует расхожая фраза: «Он мысленно раздевал её», я же на ту пору всякую милую особу представлял своей женой: выхвачен ли мимолётный образ из окна трамвая – это она, жена, семенит по снежку куда-нибудь в ателье; увижу ли грустный лик в глубине освещённого гастронома – это тоже она, усталая; она делает покупки и будет дома раньше меня, истопит печь, и мы будем пить чай с вареньем.
Мы сидели в затхлом кинозале «Вузовца» с огромным, медленно вращающимся пропеллером над головой, и для нас под голубым небом пел, любил и плакал испанец.
Возвращались мы тихие, будто с похорон. Глядели в окно автобуса на нашу мартовскую грязь. За мостом лежало серое плато озера Кабан, лёд посередине да чёрные берега. И вдруг мы увидели стоящую на крохотной льдине собаку. Посередине озера! Бедная, обречённая на гибель дворняга стояла неподвижно, глядела вниз, в чёрную воду, и было в этой позе какое-то безропотное недоразумение. Сколько дней она могла так простоять? И никто к ней подойти не мог: лёд целиком растрескался, превратился в сетку, как безжизненная пустыня.
Мы заговорили только возле дома Наташи. Она рассказала про несчастного воробья.
– Я не знаю, он, наверное, выпал из гнезда. Стоял посреди мостовой среди снующих автомобилей и неистово кричал. То есть клюв у него был разинут; кажется, я даже увидела красный рот. Он возмущался, но почему-то не двигался. Мне показалось, ему отдавили хвост и он как бы приклеился к асфальту. Мы с мамой увидели его из такси, шофёр дал рулём в сторону, обошёл – и мы все обернулись, но воробья не увидели, потому что сзади шла другая машина, за ней ещё… Мы попросили: таксист развернулся и поехал обратно… И представляешь, на том месте, где был воробышек, темнели лишь перья, приклеенные к асфальту, и несколько капель брызнувшей крови… Но боже мой, как он кричал! Он был как неистовый… сказочный трубач, который возмущается несправедливостью огромного мира, куда он только что пришёл…
Наташа вдруг страшно зарыдала.
Вытирая варежкой слёзы, после она проговорила:
– Надо было видеть его горделивую позу и этот раскрытый клювик…
Вечерело. Начал падать мокрый снег.
Мимо нас прошёл мальчик со школьным ранцем за спиной. Не видя нас, он что-то бормотал под нос и вдруг упал, с глубоким стоном схватился за сердце. Мы с Наташей переглянулись…
Мальчик полежал. Затем поднялся, отряхнулся.
– Проклятый снайпер! – сказал он и, поправив ремень ранца, пошёл своей дорогой.
3
Дом, где жила Наташа, представлял из себя старинный купеческий сруб, с шатровой кровлей, рубленный в лапу и обшитый «ёлочкой». Окна выходили в заросший палисад – на улицу, где ходил единственный в нашем районе «10-й» автобус. Мы же обретались ближе к окраине, за школой. Когда-то вместо школьного футбольного поля был овраг, рассекавший посёлок надвое. Тут стояли бараки, а глубже – хибарки и запруды для кирпичного завода, который по мере использования глины передвигался на восток. В самой школе во время войны размещался госпиталь. Когда в актовом зале показывали кино, раненые через окна подтягивали на связанных простынях мальчишек. В коридоре госпиталя лежал матрос – ни рук, ни ног, мешок с кочерыжкой; как-то сердешный попросился на воздух, на свет, посадили его на подоконник, а он вздохнул и – вниз головой туда, где тополёк, а нынче вековой тополь…
За школой, в глубине посёлка, в брошенной запруде находилась госпитальная свалка, между грязных бинтов и склянок мальчишки находили и ковыряли палками ампутированные конечности. Недалеко стояли землянки, где жили беженцы. Местные девчата работали в госпитале и брали себе в мужья калек. На детской памяти – моя фронтовая улица: скрип прочных кож и сухих древес, притороченных к культям.
В детстве я любил спать на полу, такая свобода – ночёвка в саду, на полу или сарае – разрешалась не всегда. Лежишь калачиком под окном, в глазах тьма, и слушаешь улицу. Вот прошагал прохожий… Вот с хохотом пробежала молодёжь, слышен настигающий рык и девичий визг… Палисадов в ту пору не было, люди ходили прямо под окнами, и хорошо в ночной тишине слышались шаги, чужое дыхание. Вот уже долго стоит тишина. Кажется, мир уснул накрепко… Но вдруг взвизгивает стальная пружина прямо у нашей стены, хлопает калитка, раздаются удары босых ног, кто-то бежит и с размаху шлёпается оземь. «Петя!..» – «Убью!» И я с ужасом представляю огромного дядю Петю, Витькиного отца, – будто он с поднятым кулачищем нагнулся надо мной. В месяц раз дядя Петя гоняет по улице тётю Нюру. На этот раз каким-то образом ей удаётся скрыться, она стучится к нам. Родители впускают её, и она в ужасе лезет под кровать! Устав от поисков, дядя Петя выносит балалайку и садится под фонарным столбом на скамейке, где мужики вечерами играют в домино. Огромный, с ядрёным белым телом, в широких чёрных трусах, свисающих как юбка, он склоняет голову с ребячьей чёлкой и с остервенением бьёт по струнам. Играет и час, и два…
Человек на ту пору образованный (он неплохо знал немецкий), капитан речного флота, в молодости дядя Петя исходил Волгу вдоль и поперёк. Тётя Нюра всегда рядом, как спасательная шлюпка. Десять лет они молотили судьбу паровыми плицами. Ни угла, ни колышка.
В конце концов согнулся Петро – вошёл в низкую избу матери. Широко расставив ноги в мешковатых штанах речника, прибил фуражку с якорем к низкой притолоке. Над большим оврагом он построил дом, выдвинул над обрывом кухню, как рубку, и зажил нашим соседом.
Битьё супружниц в те годы – дело привычное, как для попа кутья. В новеньких невест детвора влюблялась. Облепив окно, за которым играли свадьбу, дышали на морозе парами и вперебой обожали глазами красавицу под фатой. Она была уже «наша», и лишний раз поздороваться с ней на улице, услышать в ответ ласковый голосок было наградой. И когда эта молоденькая тётя вдруг среди ночи начинала блажить – носилась ли по двору, по крыше ли освещённого луной дровяника, укрываясь от горилловой тени супруга, нам казалось, что так должно и мило. А пронзительный вопль, лезвия женственных нот производили в паху неизъяснимую сладкую резь, и мы верили в счастье: вот вырастем и мы так будем!
Но буйство дяди Пети было особенным. Он не так прикладывал кулаки, как сокрушал среду: бил посуду и крошил топором мебель, которую купил недавно, взамен изрубленной. Это был какой-то бунт, протест. И лишь через десятки лет, в случайном разговоре тётя Нюра, уже старуха, поднесла мне разгадку.
Последние годы она проводила во дворе. Муж был парализован и лежал дома. У входа в низкие сенцы у неё стоял кухонный стол, на нём она обедала и ужинала под открытым небом. Вытерев клеёнку, сидела, глядя на облака, на ботву огурцов, на клок улицы в бреши кустарника. Да от скуки посматривала в мои владения, приставляя глаз к щели рассохшегося забора.
– Накормила, – заводила она разговор. – Спит. Всю жизнь мутузил, враг! И ведь лопает, как боров! Не успеваю готовить. Враг он и есть!
Было ей и вправду тяжело, одинокой и немощной, управляться с тяжеловесом. Мыла она его прямо на полу, на линолеуме. Как-то после мытья больной отказался возвращаться на диван. Старуха позвала меня. Я вошёл в боковушку. Дядя Петя лежал на полу нагишом, раздвинув колени, будто роженица, от вздутого живота глазела бельмастая пуповина. «Вот он, Мюллер!» – и тётя Нюра вновь начинала пенять: за прошлые тумаки, да за обжорство, да за упрямство. Но спокойно глядели на нас от полу серо-голубые глаза. Странный взгляд у паралитиков, невозмутимый и мягкий, как у грудных детей.
Он умер зимой, в крещенские морозы. Хоронили его трудно и долго. Привезли на сельское кладбище в сумерки. Но гробина не умещалась в стандарт. Земля за вечер промёрзла по срезу. Не оказалось под рукой и штыковых лопат. Искали по деревне мужиков. Пока всё сладили, наступила ночь, и гроб опускали при звёздах. Несмотря на обильные, для согрева, возлияния, многие хоронившие тогда простудились.
В горнице у тёти Нюры светло и всегда чисто убрано. Витька Клещёв, её сын, подвязанный пионерским галстуком, щурясь, сморит на меня с фотографии. Сейчас он живёт на Урале, крупный архитектор, проектировал церковь «на крови», которую возвели на месте убиенной царской семьи. С Витькой мы кидались гнилыми яблоками через забор. В руке – спартанские щиты, от прачек крышки. Вот он с соседом пробирается меж зарослей вдоль моего дома, чтоб напасть из-за угла. Я закидываю в пазуху майки кучу яблок, сколько удержит резинка трусов, и лезу на крышу. Облупившаяся краска на горячем железе прочно держит подошвы сандалий, в животе пузырится восторг. Перебираюсь через конёк и вижу: жалкий неприятель, виляя тощим задом и жалясь о крапиву, ползёт прямо подо мной. Я кричу, наводя ужас в стане врага! Враг разбегается, как от удара авиации, от затылков и плеч отскакивает ядрёная антоновка!
Витька был старше меня на год. На целый учебный – бесконечный, как Великий шёлковый путь – год! Как-то он учил вслух стихотворение о каких-то детях, которые утром проснулись – «и нет войны». Я залез на забор. Щурясь, Витька поднял книгу и не без важности показал стихотворение. Меня закачало на заборе. Такая портянка! Я ощутил ужас перед будущим, целый день слонялся грустный, ковырял пальцем в сучках заборов. Вечером пожаловался сестре, но та вынула из портфеля, хлопнула учебником немецкого, хвастливо ткнула скривившимся пальцем в текст: «Вот наизусть по-немецки задали!.. А вот по литературе – «Песня о соколе», «Песня о буревестнике!». Ё-моё, какие муки готовила мне жизнь!
До последнего дня, во вдовстве уже заскорузлая, величала тётя Нюра мужа «врагом», царство отводя ему, однако, небесное.
– Я ж тогда сирота была, пошла за него, за фашиста, – говорила она беззлобно. – В войну девчонкой работала на парашютной фабрике, взяла немного шёлку – кофточку набрать. Поймали, дали год за лоскут этот. Вот и не мог забыть, ирод, ревновал к надзирателям. У них род такой. Одно слово – Клещёвы. Схватят дак, уж не отпустят! Вот и Витенька мой в Свердловске любовь закрутил. А про Аню-то ихнюю слышал? Царство ей небесное!..
4
В каждом городе, в каждом местечке когда-нибудь да жила своя Джульетта. Эту печальную историю об Ане я уже слышал, но кое-как, обрывками. Тётя Нюра рассказала мне её подробно.
Родились у Петра после войны три младшенькие сестрёнки. На фронте ли, за границей приобрёл контуженный дед Затей Клещёв пикантный опыт в строгальном деле, тут, может, и контузия что подправила – словом, получились у Затея после Победы куклы одна другой ярче. Кукла Аня была вторая, светлые волосы, синий взгляд, а бюст – задача! За ней ухаживали парни, но больше Мишка Алдошкин, приезжий с Кубани ухарь. Но как раз тогда и случилась на нашей маленькой улице страшная беда. Ватага рекрутов изнасиловала в посадке пьяную девицу: скинули с неё мужичка и готовенькой насладились в очередь. Лёшка Туманцев впотьмах аж влюбился, подкладывал ей под голову кирпич. А когда пошёл провожать, как раз навстречу – тот мужичок с дружинниками… Туманцев выдал всех. Даже Алдошкина, который в тот преступный час вылавливал неподалёку Кольку Такранова – тот бегал без трусов по железнодорожной станции, вилял задом и пугал женщин.
Дали по десять лет каждому. Туманцеву девять – за кирпич.
И выло восемь семей по улице. Вышли ко дворам родители с топорами в руках, начисто вырубили под окнами все берёзы – знак беды и неблагополучия в доме. У нас ведь как? Коль беда в доме – умер кто, пьёт горькую, или сошёл с ума – виновата берёза! Мол, чермные корни её тянут из недр нежить и порчу. И летит по всей России щепа! Валят кудрявую в палисадах и на задах. А нет сил свалить, казнят: дерут на погибель шкуру, подрубают вкруг заболонь, кислотой комель травят. Без поклона, без прощенья – за целебность листьев, за чудный жар углей в лютую стужу, за счастье в парной. И не видит люд, в беде зашоренный, что сам по судьбе – горемыка. Ещё до берёз, до сил нечистых был задуман как страдалец, и во лбу у него звезда – а на звезде написано: «от лени, от блажи, от жадности и длинного языка, а ещё от питья, от нытья, от зависти да болот, от лесной черемисской нашей юродивости!»
И глянь по селеньям: нет берёз. Все с вороньими гнёздами – вязы. А под вязами – сумерки, чёрный грай, да извечное карканье…
Отсидели все от звонка до звонка. Колька Такранов, освободившись, стал пьяницей. Лёшка Туманцев работал экспедитором. После трудов употреблял водку с колбасой возле магазина, у центральной поселковой лужи. Подходил Колька: «Лёш, налей!» – «А вон, искупайся в луже!» Такран лез в лужу, затем отряхивался, как шавка, – и ему подавали.
Сам Алдошкин освободился с туберкулёзом. Мать его завела щенка по кличке Тулик. Вырастила, откормила и насытила сына бульоном из Тулика. И стал Алдошкин-Тулик на ноги, окреп, поступил в институт, дело по тем временам великое. Аня на ту пору была уже замужем, вышла за рыжего парня Василия, что жил у чеховского рынка. Алдошкин тогда махнул рукой, умчал в Краснодар, привёз умопомрачительную казачку. И все ломали головы, кто лучше – чернобровая Вера или синеглазая Аня?
Аня родила сына, налилась солнечным молочным светом. И когда шла с ребёночком на руках к матери, развевая по плечам светлые волосы, всё вызывало в ней восторг: и улыбка, и фигура, и даже складки шёлкового платья.
Но не родись красивой…
Как-то ввечеру пожаловался Василий на боль в боку, залил грелку погорячей, прилёг с нею на диван – и к ночи лопнула слепая кишка.
Похоронили его на Арском кладбище, у ограды, напротив военного завода, где он работал, где трудилась вся наша улица и сам Алдошкин, тогда уже начальник крупного сборочного цеха. Пошли слухи: как выходят с работы люди, с той стороны дороги, из-за кладбищенской ограды слышатся стенания и плач. И так каждый день.
То причитала Аня на могиле мужа. Всё лежала, обняв сырой холмик.
Её уводили под руки, почти беспамятную. Лечили травами и заговорами. «Неба не вижу, – говорила она. – К нему хочу». Не смогла Аня изжить из сердца чёрную тоску. Не травилась, не резалась, грехом не пользовала – сама умерла от горя прямо на могиле месяца через три после похорон супруга. Там же её и похоронили.
5
А детская ночь бесконечна. Я мал и не понимаю, что счастлив. Я гляжу в темноту, там дёргаются, как жабы, зги; я ощущаю вселенную, неосмысленное «я», летающее в оболочке одеяла… Вдруг слышится странный звук, он приближается издали, сотрясает почву, взвизг и удар оземь, взвизг и удар оземь. Кажется, эти толчки я ощущаю спиной, между нами лишь доски пола и сохлая глина. Это человечьи шаги. Они звучат в ночи, как поступь монумента.
То возвращается с ночной смены отец Мишки-патрона, инвалид войны, дядя Минрахиб. Его протез – железная труба с кожаным подколенником. Труба ударяет оземь резиновым основанием, кожа подколенника скрипит и постанывает. Это не шаги, а тяжкие упоры о земной шар, и вторит им буковая палка. Инвалид ступает быстро, я вижу его чёрный плащ из болоньи, который развевается на ветру. Он строг и молчалив, я никогда не слышал его речи, кроме короткого: «Мише!..» Выйдет к воротам и крикнет: «Мише!» – и Мишка-верховода, второгодник, шишкарь (он старше нас года на два), какая бы игра ни была увлекательной, бросает всё и бежит – юркнуть в ворота у отца под мышкой.
Я завидовал Мишке: он мог прогуливать уроки, вместо занятий пёк картошку на болоте, ходил на стрельбище, имел патроны и мощные оптические линзы, и по весне, когда мы на солнце баловали прожигалками, он с усмешкой отстранял нас рукой и, наставив мощную лупу на древо, жёг его колдовским дымно-солнечным пламенем.
Он остался на год ещё раз и попал в мой класс. Я уже подрос, вытянулся в гадкого отрока, и вот мы выходим для тёмных дел из своего проулка – клочок зигзага: коренастый, как горбун, Мишка и, от верху наклоняясь и жестикулируя, сутулюсь я… У Мишки в карманах – сигареты, магниевая взрывчатка, иногда вино, которое он сливал у отца из бутылок и делился со мной в тёмных подвалах бомбоубежищ с точностью алхимика. Учёбу я забросил.
Впрочем, в том возрасте не учился никто. В двенадцать мальчишка страшен. Мозги его набекрень, оплеухой не выровнять. Ремень лишь правит, как «опаску», его злобу. Он нарочно будет курить, пить вино, сучить рукой в кармане, подглядывая в окна дамских отделений в банях. Уважайте могучую завязь мужанья! Он не спит по ночам, мечется в сновиденьях: то рвётся его плоть – из тощих лопаток вылезает склизкое, как хрящ ящера, крыло джентльмена!
Наш класс занимал кабинет географии, и я отлично знал ландшафты отчизны. Не только потому, что классная была географичка, а ещё потому, что половину уроков стоял в углу, где висела географическая карта. Я до слёз обожал Сибирь! Сплошь зелёную, изрисованную на карте ёлками. Мечтал её объездить на моём велосипеде. Прокладывал маршрут и пускался по нему в начале каждого урока. Мечтал жить в тайге, в избе охотника. Это длилось долго – до событий во Вьетнаме. Когда там началась война, мы хотели идти туда добровольцами. «Быдло – куда?! Кому вы нужны!» – смеялся над нами повзрослевший Патрон. Кровь проливать ни за негров, ни за вьетнамцев он не хотел. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Когда он служил в армии, его батальон одели в гражданские костюмы, посадили в баржу, гружёную лесом, и под строжайшим секретом отправили воевать в Африку. Оттуда Мишка вернулся молчаливым и чёрствым молодым человеком, а в ящике комода, в жестяной банке из-под чая, его крещёная мать вместе с распятьем хранила сыновний орден Красной звезды.
Свой класс мы оборудовали сами, установили на потолке большой компас, размером с календарь племени Майя, сделали стенды из изумительных минералов, красили стены и парты – и, в конце концов, чуть не сожгли класс дотла.
Мы уж раз поджигали школу. Помогали художнику украшать к новому году актовый зал. Однажды художник вышел, мы решили покурить. Спичек не было. Кто-то взял кусок ваты, поднёс к раскалённой спирали электроплиты, вспыхнувшая вата обожгла пыльцы – и вмиг улетела на ватный сугроб. Затрещали в огне и гирлянды, даже пыль под деревянной сценой. Дым сквозь щели запертых дверей пошёл в коридор, прибежавшие учителя сотрясали запертую дверь… Кто-то рванул к выходу, Мишка поймал его на противоходе и врезал так, что тот сел на пол, схватил ведро и плеснул в костёр. Благо в актовом зале, бывшей операционной госпиталя, имелся водяной кран, и мы загасили пламя. Наконец, ворвались учителя…
Врали мы, не сговариваясь: «была включена электроплита (художник кивнул), рядом вспыхнула вата; а не отпирали дверь от испуга: обвинят, что курили и подожгли».
Учителя отходили от шока и глубже не смели копать… Лишь Марат Касимыч, завуч по воспитательной работе, не сдался – большой и сутулый, загородил Мишку горою спины с расползающимся швом посередине и, щуря насмешливые, близко сходящиеся у переносья глаза, сказал:
– Я в щёлочку видел: курил, а?.. Ну ладно: никому-с-с-с!.. И про ширинку тоже… – один глаз завуча, как индикатор, моргал на Мишкин гульфик, который тот забыл застегнуть.
Завуч не знал, что очаг под сценой, куда не могли попасть из ведра, мы гасили через щели из гульфиков молодой упругой струёй.
И вот кабинет географии. Кроме огнеопасных красителей в нашем распоряжении были ацетон и бензин. Детки вообще любят огонь, и Мишка показал фокус. Облил руку бензином, поднёс спичку – она вспыхнула, он тряхнул рукой – погасла. Захотел того и Попандупало, Толик Ефимов. Ему налили на ладошку, подожгли, но он сдрейфил – дёрнул рукой наотмашь и сшиб с парты открытую бутылку с бензином. Гриб чёрного дыма ударился в потолок, отскочил и разом наполнил рты… Парта трещала, как жертвенник. Дым, провисая колбасной связкой, плыл из двери в коридор и тянулся дальше, к лестничным маршам, как тяжёлая грозовая туча…
Утром, придя на урок географии, учащиеся, как на экскурсии, воочию лицезрели закопчённый пещерный свод первобытного очага… Начались перешёптывания, вздохи, девочки закатывали очи к небу, все ждали, что нас попрут из школы. А тому, как удалось потушить пожар и не сжечь дотла четырёхэтажное здание с деревянными перекрытиями, где, как порох, грудилась на паутинах пыль, никто не удивился: на подобные работы в счёт погашения полученных (и будущих) двоек обычно напрашиваются сорвиголовы.
Утром же Марат Касимыч встретил в коридоре Мишку, согбенно проходя, приставил ладонь к пояснице хвостом, махнул:
– Зайди.
Патрон с потными ладонями вошёл в кабинет завуча. Марата он не боялся, страшился отца: за исключение из школы тот мог убить клюшкой.
Марат Касимыч был явно не в духе, щёки набрякшие, глаза красные; он налил из графина воды, выпил стакан залпом, будто гасил внутри вулкан. Ни словом не обмолвился о пожаре.
– Так, – сказал он, сдерживая першенье. – У нас учится Грибов, в 7«Б». Знаешь?
– Ну. Засыха.
– Молчать!.. – шея Марата Касимыча покраснела, гармошка лба стала бледной.
Мишка переступил с ноги на ногу…
Марат Касимыч сглотнул, расслабил галстук, выпил воды ещё.
– Ты же взрослый, – сказал он. – Ширинку умеешь застёгивать… – завуч пухлой рукой переложил на столе тетрадь, поднял глаза. – Его обижают. У него нет отца и мать болеет! – перешёл он на крик, и Мишке показалось, что завуч кричит на него не столько из-за Грибова, сколько за сам пожар. – Грибов – другой. Он – не вы… Заступишься за него, понял? Но без драк. Если не сделаешь, даже не здоровайся…
Образ Марата Касимыча обычно вязался у нас с насмешливой снисходительностью. Но тут завуч не шутил.
– Понял, Марат Касимыч, – кивнул смятенный Мишка.
– А теперь иди… Мударис Афинский.
До явления Марата Касимыча в школе у нас был всего один завуч. Это Сара Абрамовна. Строгая, высокая женщина с тонкими икрами и свисающим, как у пеликана, горлом. Когда она в очередной понедельник, великая и громогласная, выступала на школьной линейке, я, первоклассник, глядел на её свисающий зоб с иссиня-белой кожей и меня пробирал ужас.
Однажды два малыша-первоклашки убирались в классе после уроков. Они очень старались, натаскали воды, шмыгая носами, сотворили у доски хорошую лужу и начали передвигать парты. Когда потащили туда учительский стол, загруженный ярусами чуть ли не до потолка, стол почему-то опрокинулся. В лужу полетели стопы книг, тетрадей, наборы чернильниц. Кто сказал, что непроливайки не проливаются? Брызги учительских – фиолетовых, красных и синих – чернил окрасили лужу, как перья папуаса, а с ней и всю плавающую макулатуру. Надо представить, какой ужас, какую тоскливую немощь испытали добросовестные поселковые детки, когда осознали степень предстоящей кары. Тем более – когда на грохот прибежала с кудахтаньем учительница, а вслед за нею, тряся зобом, будто индейка, и высоченная Сара Абрамовна. Девочкой была Галя Бочкарёва, ростом едва достававшая до столешницы, а мальчиком – не трудно догадаться – был я. Бедная Галя плакала, спрятавшись за шкаф, мне тоже очень захотелось к маме. Мы покорно ждали своей участи…
Но к нашему удивлению Сара Абрамовна нас не ругала. Она даже улыбнулась, глянув сверху, как добрый журавль, а учительнице пробормотала строго что-то вроде того: тетради завести новые, классный журнал переписать – и, придерживая рукой длинный, узкий подол юбки, склонив голову, ушла, занятая, восвояси.
Её боялись не только дети. Наша толстая и вальяжная Талия Нургалеевна часто встречалась во время уроков с худосочной Ириной Матвеевной. Они давали детям задания для длительной самостоятельной работы, а сами, объединившись, принимались судачить. Чаще к флегматичной Талие прибегала подвижная Ирина, жена алкоголика, незлобивая сплетница. Однажды во время такой беседы их и застукала Сара Абрамовна – вошла в класс, будто упала дверь, и закричала зычно: «А ну марш отсюда!» Надо было видеть, с какой прытью кинулась к двери Ирина Матвеевна, раня пол стальными набойками «шпилек». Казалось, сам ужас отразился в её судорожно сократившихся икрах…
И вот появился в школе Марат Касимыч, завуч по воспитательной работе. Совершенная противоположность Саре Абрамовне. Он подавал неплохие надежды и будучи преподавателем в Казанском университете, и будучи баскетболистом в знаменитом «Униксе». Но вот закладывал за галстук… Сначала его вывели из команды, а позже из университета. Придя к нам, этот крупный дядя сразу покорил все классы. Как раз тогда была эпидемия гриппа, учителя болели, и новый завуч ходил из класса в класс – закрывал бреши. Он рассказывал о великих мореплавателях и землепроходцах, об удивительных приключениях, о дружбе и любви. Он перевоплощался в пиратов, в людоедов, шипел, рычал и подпрыгивал – и детки слушали, едва не обнявшись от страху. Не знал Марат Касимыч, что подписал себе этим приговор. Теперь таборы детей, едва завидев его в коридоре, бежали за ним наперебой с криком: «Марат Касимыч, идёмте к нам рассказывать!..» Человеку пьющему в иное утро такое внимание было, вероятно, больше чем в тягость, и он отсиживался во время перемен в своём кабинете, пил из графина водицу…
Закончив седьмой класс, Мишка ушёл из школы, поступил на работу и с первой зарплаты повёл меня в ресторан. Нас обслужили как взрослых. Мы уже были пьяные, когда увидели в дальнем углу медвежью спину и медные кудри Марата Касимыча. Он сидел с другом. Мишка послал на его стол через официанта бутылку вина, завуч удивился и вертел головой. Мишка взял ещё бутылку и пошёл сам – узнать, кто такой Мударис Афинский.
Что тут мог сделать педагог, который сегодня утром преподавал мне географию, завуч по воспитательной работе? Что мог противопоставить он нашим открытым улыбкам? Он обнял нас и повёл на улицу, мы шагали по Кремлёвской, и он опять что-то рассказывал, вовсе забыв про друга…
В то лето, когда Мишка крутился в «шилке», шугая «фантомы» в горячих песках Африки, а я сдавал, волнуясь, экзамены в вуз, Марат Касимович погиб на курорте. Поднялась волна, высотой с двухэтажный дом, – единственная волна на всю акваторию, захватила с берега одного лишь Марата и унесла к себе, в море.
В тот год не стало и Сары Абрамовны, преподавательницы литературы, завуча по учебной части. Только в старших классах я узнал, что эта строгая женщина, перед которой все дрожали, была так нежна, бескорыстна и добра. В шестом классе я спёр в школьной библиотеке книгу – летопись монаха Никона, – о древней Руси, которую выучил наизусть. А позже узнал, что половина школьной библиотеки, исторические книги, романы – дар Сары Абрамовны школе из личной библиотеки. И в выпускной вечер, когда счастливые классы вышли в ночь, чтоб проститься с учителями и отправиться в речной порт для традиционного гулянья, Сара Абрамовна окликнула меня: «Дай-ка я тебя поцелую!» И когда она прикасалась губами к моей щеке, я со жгучим стыдом вспомнил об украденной книге. Я неуклюже простился с ней, об этом жалею. Но не жалею о книге, это единственная память о ней.
6
Наш общий знакомец Антон Хусейнов учился в другой школе, но дружил с нами: играл в хоккей на нашей коробке, танцевал на вечерах в школе, и его принимали как своего.
Есть люди изначально комичные. Любые их начинания, какими бы вертикальными ни были, в итоге превращаются в фарс, в прыск, в пародию… Человек стучит подошвами совершать подвиг, но спотыкается и квасит нос о штакетник, закидывает уду на щуку, но ловит себя крючком за ухо. И в конце концов от высокого дела – от славы, от денег или даже от гибели – его спасёт судьбоносный понос или враг бесшабашности, друг степенности и бережёного долголетия, геморрой.
Взять даже внешность. Казалось бы, у Антона правильные черты лица, хорошая стать, безукоризненная речь и даже череп – арийский слепок! Но при глупейших обстоятельствах, бесовской каверзе звёзд двуликий Янус поворачивает не ту ягодицу – и меняется судьба, весь образ, – он ломается, словно в мутных потоках дождя за стеклом. И правильная фигура кажется однобокой, лицо плебейским и даже череп становится похож на рахитическую тыкву обритого под лоск тибетского монаха.
Вот красавцем Антон стоит высоко на сугробе против дверей школы, он ждёт товарищей с уроков. Родители купили ему драповое пальто, литые плечи и каракулевый воротник, на голове пыжится дорогая шапка. Вчерашний мальчик – он уже не мальчик: там, где присыхали сопли, теперь темнеет гусарский пушок. Антон красуется на сугробе, статен! И плющат старшеклассницы об окна носы, подзывают подруг, начинаются расспросы, возможно, кто-то напишет – и завтра ему передадут стихи…
Но ухмыляется подлый Янус.
Антон видит выходящих друзей. Они ему машут, он тоже, вот тянет вперёд руку, делает шаг… но проваливается одной ногой в сугроб, другая зависает… Он летит нырком в снег, шапка катится, обнажая сплюснутую голову, а руки улезают в сугроб, задрав рукава пальто, обнажая костлявые, ещё детские локти… И разочарованно удаляются томные взоры от окон, и не будет уже ни стихов, ни записок.
Между тем Антон поднимается, будто воды в реках текут по-прежнему, и как ни в чём не бывало вытрясает из рукавов снег. Смеясь, о чём-то рассказывает и при этом умудряется даже заикаться, чего прежде за ним никогда не наблюдалось.
Таков был Антон.
И вот этот вчерашний отрок влюбляется в нашу Наталью Барейчеву.
– Кто такой? – спрашивает она у подвильнувшего дипломата.
– Антон. Ну, Антон!
– Это который… «скворечник»?
Скворечник – это кличка Антона. Дело в том, что в детстве ему на голову падал скворечник. Обыкновенный, деревянный. Торчал на высокой жердине на границе с соседним участком. И вздумалось мальчугану переместить его поближе к своим яблоням, чтобы уничтожали скворцы только своих вредителей. Но как снять? И начал Антон подрубать жердину у основания. Но откуда у мальчишки острый топор? Он им и жесть, и проволоку, и лёд на кирпичных дорожках рубит… Ударами Антон жердину лишь раскачал. Да так, что отломились наверху ржавые гвозди. И полетел ещё мокрый от мартовского снега птичий дом со свистом вниз, как немецко-фашисткая бомба…
Хорошо, что на голове мальчугана была меховая шапка с верхом из толстой свиной кожи. Да ещё скворечник по темени скатом пришёлся. Ткнулся мальчишка лицом в снег, пролежал в беспамятстве, не помня сколько. Потом встал, снял ушанку, потрогал голову: ни шишкаря, ни болячки!..
Удар скворечника не беда. Беда в другом заключилась. Угораздило Антона в юношескую-то пору, да во время застолья, рассказать об этом приятелям! И хохотали друзья, раскачивался стол; вспоминая его несчастья и казусы, кричали: «Вот, вот в чём причина! вот откуда кактус растёт!..» Антон смущённо улыбался, скромно молчал и уж благодарил в душе Бога за то, что не успел рассказать и о том, как он не поверил рассказу в книге о мальчике, который надел на голову чугунок, и того спасали всем миром – и тоже надел на голову чугунок, и с ним тоже стало, как в книге; и о том, как он поднял в магазине кем-то звонко рассыпанные по кафелю юбилейные рубли с изображением Ленина и в порыве благородства отдал продавщице, сказав при этом, что у него тоже есть дома такие, а дома вдруг обнаружил, что отдал свои – те, что копил, экономя на обедах; и о том, как на барахолке снял с себя и дал померить незнакомому парню дорогие американские джинсы, получил в челюсть и, очнувшись, пошёл в трусах ловить такси; и о том, как решил накачать мускулатуру, купил мощный, на стальных пружинах, эспандер – и чуть не убил себя по той же голове ручкой этого эспандера, могуче сорвавшейся при натяжении со ступни, рассёкшей темя и отправившей его в длительное беспамятство.
Тогда за столом и утвердили: да, всему причина есть скворечник!
И теперь всегда, если разговор касался Антона, безнадёжно махали в его сторону рукой: да что с него взять! Ему же на башку того… скворечник!
Но Антона ценили как раз за эту несуразность, добродушие и безобидность. И пробивали пути к Наташе.
Длинноногая Наташа подходила тотчас, как только её окликали.
Ей рисовали и разукрашивали…
Стоя визави, она надувала губы…
Ей внушали, пеняли, талдычили!
Она задумчиво отворачивала бледное лицо в сторону…
– Отличный парень! – кричали ей.
– Ну, пусть подойдёт, я же не кусаюсь, – сдавалась она наконец.
Антон являлся на школьные вечера, удачно закусывал вино мускатным орехом, и наши строгие завучи, стоящие на страже школьных дверей, его пропускали. Приходил ради Наташи, но не смел пригласить её на танец. Так пропал целый учебно-танцевальный год. Мы перешли в десятый. На вечере в честь Октября мы буквально толкали его в спину, но он упирался и шипел. Наступил Новый год. В конце концов Антон решился. Был великолепный бал. Девушки сделали причёски, надели маски и, словно сошедшие с очарованных берегов, веяли чудными духами. Ребята надели бабочки.
Антон стоял у стены, и даже чёрная маска «Мистера Х» не могла скрыть его бледность. Как в боксёрском углу, его обмахивали, окучивали советами, как подойти и что сказать. О решении Антона знала вся школа. Загадочно улыбались девочки и молодые учителя. У двери Сара Абрамовна, в длинном бисерном платье, зауженном у колен, стояла, как русалка на хвосте, – и, оборачиваясь в сторону Антона, со скрытой улыбкой мелко покусывала губы.
Антон выжидал. И вот момент упал, как гиря с неба! Антон сказал – и все расступились. Он шагнул, как на подвиг. Было видно, как торжественно он скосил голову с великолепной укладкой, как шикарно, держа корпус наискосок, пересёк зал. Он остановился напротив Наташи, шаркнул, кивнул и протянул руку.
Наташа сделала реверанс, и они прошли в середину зала…
Она опустила руку ему на плечо, он взял её за талию, и они стали передвигаться в медленном танце. Исполнялась вытягивающая душу песня «В мокром саду…»
Всё шло отлично, и ничто не предвещало беды. «Вот так решаются судьбы» – с грустной удовлетворённостью подумали мы. И уже было вытащили по сигарете и двинулись к туалету… как в зале раздался душераздирающий крик. И крик этот был ужасен!
Ничто перед этим криком вопль погибающего динозавра. Ничто – крик ростовщика, который всю жизнь копил и вдруг обнаружил, что ограблен до нитки! Взвизгнула игла проигрывателя, песня оборвалась. Мы обернулись. Кто-то лежал на полу посреди зала… О, это был наш Антон! Он валялся возле ног Наташи и отвратительно орал, корчась. При этом держался обеими руками за одно место, называемое конечность…
То, что случилось, было нелепо, смешно и драматично. Это всё равно, что смерть от клюва попугая.
А случилось вот что. Передвигаясь в танце, партнёры, естественно, касаются друг друга. И с Антоном произошло то, что случается с человечеством раз в сто, а быть может, в тысячу лет. Коленная чашка Наташи пришлась прямо под колено Антона. Девичья, точёная, мраморная, как у Венеры Милосской, напряглась – и сковырнула коленную чашку расслабившегося в мечтаниях Антона, как яичную скорлупу!
Он упал, как срезанный.
И блажил, блажил, блажил…
Бедного мы унесли на руках в машину прибывшей «скорой помощи».
Такова его судьба. Смещённая ударом скворечника карма.
7
Глядя на фотографию, замечаю, что у Наташи редкие карие глаза и классическая родинка над верхней губой – именно та, о которой мечтают многие девушки и рисуют карандашом. При всей лёгкости у неё была заметная грудь, которую особенно подчёркивала школьная форма. В ту пору ещё не было акселераток и бройлерных конечностей – и, стыдясь своих длинных ног, Наташа пыталась укоротить их за счёт низких каблуков и коротких подолов.
Мы особенно сдружились в конце десятого, вместе отмечали дни рождения и праздники. Во время перекуров целовались, сидя на подоконниках тёплых подъездов. Я не знал поцелуев слаще! Губы её были нежны и неисчерпаемы, отчего сильно кружилась голова. Когда я отстранялся, она улыбалась, не снимая рук с плеч, и было видно, как она любит целоваться. Следующий поцелуй был слаще! На школьных вечерах она выглядела изящно, платья её были воздушные, тёмные волосы укладывались в букли.
Я знавал девичьи талии: широкие и тонкие, рыхлые и костистые, – нечто неодушевлённое, это были поясницы, бока, спины. Но когда танцевал с Наташей, рука не ощущала плоти, талия будто подтаивала под ладонью.
В юности привлекает таинственность, в зрелости наоборот – прозрачность и откровение чистоты. Влюбиться в Наташу мы не могли, она была слишком нашей, а классная родственность пугала, как угроза кровосмешения. Интересовали нас больше незнакомки, возрастом постарше. Несколько загадочные, с оттенком порока и разочарованности, с туманным взором или какой-нибудь театральной хрипотцой. И не знали мы, что хрипота – от курения, томный взгляд – от вина, загадочность – от её измен, а печать разочарования – от неудач и унижений. Но что делать?! Доступная зрелая грудь – сродни материнской!
Однажды весной после уроков старшие классы пригласили в актовый зал. Приглашение было объявлено с некоторым замысловатым почтением. Да что и говорить! Десятый класс! Весна и молодость, и всё впереди! Мы ощущали свою значимость, это чувство поддерживали и наши учителя.
Войдя в зал, мы увидели к своему удивлению стоящего у кафедры Алексея Николаевича, директора школы, который программные дисциплины уже не преподавал. Он улыбался и приглашал садиться.
У нас часто менялись преподаватели, но образ директора был константой. Это был директор всего нашего детства. И это был великан. Снежный человек в костюме и галстуке. Однако части тела его были удивительно пропорциональны. Будто взяли коренастого атлета и увеличили раза в три: получалась необозримая спина, лошадиная челюсть, а икры ног – трубами. Другие люди его роста, которых я мысленно уменьшал в обратной пропорции, становились уродцами: сужались до смешного плечи, черты лица мельчали, сокращались до обезьяньих, а уменьшённая голова вовсе походила на черепашью.
Как бы ни звучало банально, но доброта и ширина улыбки Алексея Николаевича соответствовали размаху его плеч. Он вызывал доверие, и хулиганы не боялись приводов в его кабинет, заранее зная, что их с добрым словом отпустят. Он обожал хоккей, при нём сборная школы стала чемпионом республики. Вот и сам он в крещенский мороз, обтянутый голубой «олимпийкой», с инеем на плечах неумело катится, с клюшкой в руке, по льду школьной коробки. Юркая малышня, мелькая между мускулистых ног, обводит его, как истукана. Вижу его с семьёй и в летнем лагере на реке Мёше: он, жена и дошкольник сын – громадные люди в купальных костюмах стоят в зарослях ивы, как олимпийские боги. Жена бела телом, распущены тёмные волосы, она мазью растирает мужу обгоревшую на солнце спину, рядом мучительно чешется сдобный Гаргантюа, весь искусанный комарами.
– Дорогие ребята! – начал директор, когда десятиклассники уселись. – Я хочу рассказать вам одну небольшую историю, замечательное приключение, которое случилось со мной в юности и изменило мою жизнь.
Это был 1956 год. Я ступил на порог юности. У меня был дядя, научный сотрудник. Как-то я приехал к нему в гости, но дома его не оказалось; меня отвели в его библиотеку и оставили одного. Я начал просматривать книги на полках. И мне случайно попал в руки томик стихов. Я открыл наугад, прочитал: «Выткался на озере алый цвет зари. На реке со звонами плачут глухари…» Я открыл другую страницу: «Вы помните, вы все, конечно, помните…» Да, это был Сергей Есенин! Тогда он был запрещён. Я попросил у дяди эту книгу и дома переписал её всю в свои тетради. С тех пор я не расстаюсь с его стихами…
День поэзии Есенина Алексей Николаевич провёл великолепно, он читал стихи широко и вольно, размахивал ручищами и улыбался на всю ширину своих кашалотовых скул. Мы выходили из актового зала просветлённые, удовлетворённые; тем более что Есенин, недавно включённый в учебную программу, среди школьников был моден.
На улице стояла мартовская оттепель. К полудню всё обмякло, пахло талым снегом, во влажном воздухе, свистя крыльями, низко кружило вороньё. Мы шли гурьбой, перепрыгивали через лужи.
– Кстати, я иду в литобъединеие при музее Горького, – сказал я Наташе. – Там собирается молодёжь. Нужно переписать стихи в трёх экземплярах, прочтёшь – и тебя обсудят. Пойдёшь? – спросил я, – ты ведь тоже пишешь?
– Боже упаси! – испугалась Наташа, хватаясь за грудь. – Обсуждаться! Не-ет!.. И с чем?
– Ты не бери стихов, а так – посмотришь. Там по пятницам собираются. Значит, завтра. Идём?
– Галь, пойдёшь? – спросила Наташа у подруги. Галя Бочкарёва, маленькая и кургузая математичка, шагала впереди, приспустив плечо от тяжести портфеля.
– Ну да ещё! – был ответ.
– Я схожу, – сказала Наташа, – и потом мне нужно писать реферат о современной поэзии, – добавила она, чтобы смягчить измену перед подругой.
– А новая тема?! – ужалила Галя; её синие боты, раздутые в голенищах крепкими икрами, уверенно давили мельхиоровую кашицу.
Наташа закинула голову, положила её на плечо и, на ходу глядя мне в глаза с серьёзным выражением лица, проговорила:
– Мы договаривались заниматься в выходные, а я иду в пятницу.
8
Занятия Лито проводились на втором этаже музея, в актовом зале, куда вела скрипучая деревянная лестница. Кружковцы размещались на стульях, где придётся, читали стихи и разбирали.
На ту пору я увлекался Пушкиным. Меня уже не раз громили за подражание. Но я упрямился.
Благодарить, просить прощенья,
И на прощание желать, —
Всё, всё обидный голос мщенья,
К тому, что трудно потерять, —
закончил я стихотворение осипшим от волнения голосом, раздал листочки и сел неподалёку от Наташи.
В зале стало тихо. Никто не хотел говорить. Опусы школьника не слишком интересовали старшекурсников журналистики, среди которых мелькали потрёпанной одёжкой довольно сильные поэты. Руководитель кружка, Зарецкий Марк Давидович, чернявый мужчина с шевелюрой, ходил между рядами, с интересом поглядывая на присутствующих.
– Витиевато, – сказал наконец Сергей Карасёв, невысокий очкарик с мощной, выпирающей у подбородка грудью, отчего имел сходство с карликом. – Стихи надо писать тем языком, на котором говоришь в жизни. Да и семенит автор: «всё, всё», а в начале – нагромождение гласных…
– Однако «на прощание желать» – неплохо, если это, конечно, желание, а не пожелание, – произнёс Марк Давидович и с нарочитой улыбкой плотоядности оглядел присутствующих. Но все молчали. – Ну, ребята, так не пойдёт! – сказал он обиженным тоном. – Человек написал стихотворение, принёс на ваш суд, а разбирать его должен только руководитель.
– А по-моему, хорошо! – обернулся с переднего кресла крупный мужчина с сильным, окающим голосом. – Вы все бьёте его. Но пусть юноша лучше у Пушкина учится, чем у Вознесенского, не ошибётся на первых порах, а после возьмёт своё.
Тогда ко мне подсел молодой человек, тоже старшекурсник, но студент физфака, худощавый, с прямыми отросшими волосами и длинным, насморочным носом. Устроившись сбоку, он задумчиво соединил кончики пальцев обеих рук, затем вдруг собрал сухощавое лицо в гармошку, будто его поперчили, и, выдержав паузу, произнёс:
– Вы подражаете Пушкину, в прошлый раз принесли стихи о его дуэли, – он говорил скороговоркой, иногда слова проглатывал. – Но вы уверены, что знаете Пушкина?
Я кивнул.
У меня на тот момент в этом сомнений не было, я действительно знал наизусть немало стихов Пушкина, они запоминались очень легко.
Молодой человек упёр локоть в колено, пальцами ухватил свой подбородок и произнёс:
– Скажите тогда, что означает фраза из «Евгения Онегина», где дядя «не в шутку занемог», – он потёр слезящиеся глаза, – что означает фраза: «Он уважать себя заставил»?
Чувствуя в вопросе подвох, я ответил не сразу.
– Заболел, – медленно проговорил я.
– Нет, он умер! – коротко сказал студент. Он поднялся с места и прошёлся.
Марк Давидович с видимым интересом подошёл ближе, но не вмешивался.
– «Уважать себя заставил» в простонародье означает: «дал дуба», – продолжил физик, – это синоним фразы: «приказал долго жить».
– Гм… Не совсем убедительно, – заметил Марк Давидович.
– Убедительно! – возразил физик, – потому что дальше идёт: «Его пример – другим наука»
– Интересно… – сказал Марк Давидович и задумался. – «Его пример – другим наука…» Да, это означает – умер! Вот видите…
Я был взволнован, интуитивно чувствовал, что это не так, но промолчал из боязни запутаться, кругом сидели ребята серьёзные, по части образованности я им уступал, да и смущала меня Наташа, я боялся в её глазах выглядеть смешным и беспомощным.
– Не переживай! – говорила она потом на улице, на ходу застёгиваясь, пряча грудное тепло в пальто. – Стихи твои мне нравятся. Хорошие стихи.
«Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых», – вертелось у меня в голове.
– А что до подражания, то все вначале подражали, – продолжала Наташа. – Через подражание формируется собственный стиль. Главное знать, кому подражать. Прав этот… окающий дядя. Лермонтов ведь тоже подражал Пушкину, а Пушкин – Байрону.
– Погоди! – сказал я. – А ведь он не умер, дядя-то. Врёт этот физик. Где-то вычитал, а сам не знает и не любит Пушкина. Смотри, что дальше … «Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарство, вздыхать и думать про себя: «Когда же чёрт возьмёт тебя». Так думал молодой повеса…» И смотри, что дальше: когда он приехал к дяде, то: «Его нашёл уж на столе, как дань, готовую земле». Вот с какого момента Онегин и мы узнаём, что дядя дуба дал, и получается, что наш «повеса» не знал, что его дядя мёртв в тот момент, когда произносилась эта самая фраза: «Он уважать себя заставил»!
Меня охватила внезапная радость, я почувствовал себя увереннее.
– Наташа, – сказал я, – я не то что пишу стихи…. Я пока познаю язык, который знаю плохо. У меня не было возможности с детства впитать русский язык. Мне трудно. Я косноязычен. И то, что для другого в языке само собой разумеющееся, для меня – открытие. Как-то летом мне соседка попалась, поднялась из оврага по лестнице, обернулась и говорит: «Гроза будет, птицы низко и небо мреет». От этой фразы повеяло грозой больше, чем от неба. А вот казаки Пугачёва, узнав, что на них движется царское войско и плахи не миновать, – затосковали животами.
– Знаешь, – продолжал я, – я думаю, что инородец или человек, выросший в нерусской среде, неумело подходит к русской стилистике и этим невольно экспериментирует. Язык его неправильный и потому смелый, запоминающийся. Вот Гоголь, вырос на Украине, а как плетёт! А Рустем Кутуй. Какие стихи о кочевниках, узкие глаза в свете костров, – чудо! Не хуже, чем у Блока. Тут есть ещё один момент. Казалось бы, у аборигена все козыри и он видит себя как бы в зеркале, потому что он сам прямое отражение языка. Но в зеркале он может видеть себя только анфас. А вот в отношении национальной глубины, – тут поёт кровь! Тут инородец по духу уступит. Пусть абориген перед зеркалом не видит себя и не слышит. Пусть он слеп и глух. Но он слеп и глух по-особенному. Он слеп, как Гомер, и глух, как глухарь, который самозабвенно предаётся любовной песне на току и не слышит приближения смерти! Таков Есенин!..
– Ты умный.
– Просто я много думаю об этом. Это из моей статьи…
Мы помолчали. Пошёл крупный, мокрый снег. Над нами, рядом с одинокой сосной, горел фонарь. Снежинки вились под ярким диском, похожим на луну, стремились к земле, и как-то обречённо висела в конусе света зелёная ветка сосны.
– У меня спина мёрзнет, – сказала Наташа, затем добавила: – А знаешь, почему?
– Почему?
– Потому, что у меня талия тонкая, а бёдра широкие, пальто не плотно примыкает. Вот и проходит холодный воздух.
– Давай потру, – сказал я и начал расстёгивать её пальто.
– Грабят, – прошептала Наташа, закрыв глаза.
Я повернул её и поцеловал в губы.
– Хочу на пляж, – сказала Наташа. – Чтоб солнце пекло.
И я представил горячий пляж, её раскалённые волосы падают мне на лицо, они пахнут ветрами Сахары…
– Губы шершавые? – спросила Наташа.
– Обветренные. И на руках цыпки, – пошутил я.
– Что это?
– Это я так, о детстве, – сказал я, тихонько растирая ладонью её хрупкую спину. – Весной, когда мы пускали кораблики в холодной воде, на руках появлялись цыпки – это кожа на тыльной стороне ладони шелушится.
– Не-ет, такого, сударь, у нас нет, – возмутилась девушка.
– Наташ, ты по-прежнему певца любишь?
– Какого певца?
– Рафаэля. Испанца.
– Ой, детское!..
– А что нынче – не детское? – спросил я.
– Не детское… – Наташа то ли задумалась, то ли не решалась признаться. Наконец сказала: – Афанасьев.
– Это кто – артист?
– Нет, выпускник из соседней школы.
– Где ты его откопала?
– На улице. Как в романе. Я поскользнулась, упала, он помог встать, отряхнул, проводил до дома.
– Ты встречаешься с ним?
Наташа засмеялась:
– Ты, кажется, ревнуешь?..
Я на самом деле ревновал. Мне было неприятно, целуясь с нею, слышать о каком-то там Афанасьеве. Если в семнадцать лет каждая девушка считает себя принцессой, то почему бы юноше не мнить себя принцем!