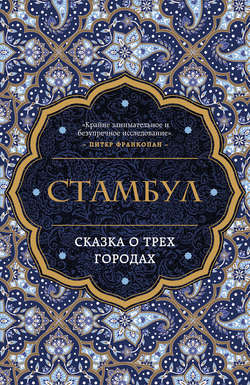Читать книгу Стамбул. Сказка о трех городах - Беттани Хьюз - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая. Византий
Глава 6. Вино и ведьмы
400–200 гг. до н. э.
ОглавлениеВсегда купцов Византий поит допьяна. Из-за тебя всю ночь мы напивалися И, мне сдается, пили очень крепкое – Встаю наутро четырехголовым я.
Менандр, IV в. до н. э.{92}
Виноградная гроздь, наполненная влагой Диониса, ты скрываешься под золотым пологом Афродиты. Твоей матери-лозе больше не обвивать тебя возлюбленной ветвью, не накрывать тебя божественным листом.
Миро (византийская поэтесса), «Араи», III в. до н. э.{93}
Что это, обычная зависть? Преувеличенные рассказы путешественников? Доступность фруктов с трех континентов? Проклятие торгового города, где то, что увозят, то и привозят? Как бы то ни было, есть множество историй о любви византийцев к бутылке. Историк Феопомп с острова Хиос, «любитель истины»{94}, писал об обычаях византийцев во второй половине IV в. до н. э.:
«…город стоял на торговом месте, и жители все время проводили на базарной площади и у воды; оттого-то они и приобщились к доспехам и питию в тавернах. Что же до халкидонян, то до того, как они вместе с византийцами стали участниками публичной власти, они неустанно предавались лучшим занятиям; но стоило им только раз вкусить демократических свобод византийцев, как они по уши погрязли в порочной роскоши, и в быту из абсолютных трезвенников, ведущих умеренный образ жизни, превратились в пьянчуг и расточителей»{95}.
А источники у пьяниц в Византии были, несомненно, обильными. В конце концов, город стоял на краю континента, где вино производили, по меньшей мере, с 6000 г. до н. э.
В служебных помещениях Археологического института в Ереване, в Армении, громоздятся горы ящиков из-под молока и полиэтиленовых мешков. Внутри такое множество археологических артефактов, что эти находки расползаются по коридорам и лестничным пролетам. Здесь настоящие сокровища: изысканного плетения разноцветная циновка и соломенная набедренная повязка – и то, и другое с живописным узором, большие темные горшки для пищи, самая древняя в мире кожаная туфля. Все это найдено в пещере Арени в южной части Армении и относится примерно к 4100 г. до н. э.
Там же в 2007 г. под консервирующим слоем овечьего навоза обнаружилась винодельня, возможно, древнейшая в мире. В затхлом мраке пещеры, огороженной стремительной рекой Арпой, несущейся по землям Армении и Азербайджана, нашли огромные бродильные чаны и давильни, а также керамические чаши и останки скелетов, судя по которым здесь потребление алкоголя (из кубков для красного вина объемом около 14 галлонов), возможно, было частью массового, общего обряда, сопутствующего отправлению мертвых в последний путь. В некоторых рассказах о Дионисе, которого истово почитали в Византии, этот бог был родом то ли с Ближнего Востока, то ли из Фракии. В Ветхом Завете говорится, что Ноев ковчег оказался на вершине горы Арарат (о том, что это был Арарат на Южном Кавказе, в XIII в. н. э. рассказал Марко Поло), и Дионис сошел на землю, чтобы возделывать ее и посадить виноград, который «опьянил его».
Новые археологические материалы из Стамбула подтверждают преувеличения из литературных источников: вино сюда ввозили, вывозили и сами наслаждались им с размахом. Во время раскопок в метро в центре города, в Сиркеджи, которые начались в 2004 г. и продолжаются до сих пор, извлекли фрагмент ручки от амфоры с Тасоса (греческого острова, который славится медовыми винами). Принадлежность сосуда была очевидной – танцующий сатир: спина выгнута, голова откинута. Были и другие фрагменты, манящие зрителя полнотой жизни: безумные пируэты вакханки на разбитом горшке. Глянцево-черная лампа, чтобы освещать путь афинянам, которые обслуживали ту самую разбойничью таможню в Хрисуполисе, – глиняное изделие в самый раз для афинской агоры. Были тут и амфоры с Хиоса, из Синопа, Книда, с Родоса, из Северной Африки – они предназначены для подогревания напитков, чтобы не замерзнуть в дозоре на побережье. Теперь все эти предметы впервые за 2400 лет увидели свет.
Одни пили, а другие работали – скелеты мужчин и женщин, живших на побережье Босфора с V по IV в. до н. э., указывают на то, что средняя продолжительность жизни составляла от 30 до 40 лет и что жили они, предположительно, в суровых условиях. Руины храма Посейдона, также обнаруженные в 2004 г., подтверждают, что этот морской бог должен был покровительствовать торговле этими полными вина амфорами во всем знакомом мире и – заботиться о людях, охраняющих подходы к нему.
И хотя в античный период Византий упоминается в письменных исторических источниках, в основном, в качестве военного или выгодного трофея, археологические данные вновь говорят о том, что, когда город не был в осаде, не подвергался вторжению и не являлся разменной монетой в политической игре существовавших на тот момент сильных мира сего, повседневная жизнь города – вполне естественно – вращалась вокруг получения всевозможных наслаждений.
Прогуляйтесь по парку Гюльхане в районе Эминёню в нынешнем Стамбуле. Вы окажетесь здесь в окружении призраков древнего Византия. Сейчас здесь плутают туристы, играют родители с детьми и целуются парочки, а тогда проживали свои жизни и хоронили своих мертвых первые жители Восточного Средиземноморья – память о них увековечена на сохранившихся надгробиях. Здесь можно встретить уличных артистов, астрономов, моряков и врачей древнего Византия. По рассказам (одного из сочинителей IV в. до н. э., возможно, Аристотеля), на «чудотворцев» (жонглеров, музыкантов, прорицателей, торговцев амулетами) в городе налагали огромные сборы{96}. Речь, видимо, идет о бродячих артистах, пользующихся живым спросом в этом жадном до удовольствий портовом городе.
Эти надгробия увековечивают память и о жрецах и жрицах. Исполнение религиозных обычаев было еще одной отрадой обывателей Византия. Они ежедневно обегали до восьми храмов и святилищ, вознося молитвы, оставляя мелкие жертвоприношения и лихорадочно пытаясь привлечь богов моря, небес и земли к участию в своей жизни. У греков не было слова, обозначающего религию. Боги, богини, полубоги и духи попросту были повсюду и во всем, а Византий, будучи «благословенным» и этнически разнородным городом, считался земным обиталищем большего числа духов, чем другие поселения.
В Византии царил греческий дух, но дорическое происхождение не могло победить восточный характер поселения. Всегда было ясно, что эта постройка возводится на краю Азии. Наряду с греческими богами, которых тут ожидаемо почитали в храмах и святилищах: Афродитой и Дионисом (им здесь поклонялись истово), Аполлоном, Герой, Афиной, Артемидой и Реей (не говоря уж о спартанских фестивалях вроде Гиакинфии и Карнеи), здесь чтили также и фракийского бога Зевксиппа и богиню Бендиду. С середины IV в. начали поклоняться египетским богам Серапису и Исиде, а также таинственной повелительнице природы Кибеле.
Кибела, которую обычно охраняют огромные кошки и происхождение которой уходит своими корнями на 9000 лет назад к фигуркам прабогини плодородия, найденным в Чаталхёюке на юге Турции, – странное и безжалостное существо. Считалось, что прорубленные в скалах в Центральной Анатолии врата в ее честь ведут в иное измерение. Они и сегодня остаются удивительным и таинственным сооружением. Если добрести по морозу, сторонясь недружелюбных пастушьих псов с шипастыми ошейниками, то бесстрашный турист и сейчас найдет эти врата там, где некогда было царство Мидаса, человека с роковым даром все обращать в золото. С горных обрывов все так же безучастно, как и три тысячелетия до того, взирают на мир слепые отверстия, проемы в скалах, где якобы под присмотром Кибелы происходит переход от жизни к смерти.
О могуществе этого существа слагались легенды. Греки порой называли ее Метер Орейей, матерью гор, или Кибелией, на эллинский манер произнося фригийское слово, означающее гору{97}. В Византие ее стали почитать как Рею-Кибелу, Великую владычицу природы. Впоследствии Кибела станет покровительницей нового святилища на афинской агоре, а затем, по словам Овидия, она промчалась через Пессинунт в Малой Азии, по подножиям горы Ида, миновала остров Тенедос в Эгейском море и направилась в Рим оказать сопротивление Ганнибалу из Карфагена{98}. Каждый год черный камень Кибелы несут с Палатина окунать в речку Альмо (приток Тибра). Под христианскими сооружениями на площади Святого Петра скрывается Тавроболий, одно из ее святилищ в Риме, где под струями крови стояли римские жрецы, когда в жертву богине наверху резали быков. Кибела пережила даже обращение римского Византия в христианство – каждый год в ее честь по центру города шествует величественная процессия. Так что будем считать, что жители Византия почитали Кибелу и многих других богов – страстно, благочестиво и неуклонно.
Осознавая, сколь многим они обязаны могуществу здешних акваторий, колонизаторы возводили святилища с видом на Босфор, а после колонизации тут же устроили при входе в Черное море заставу. Колоссальное значение этого контрольно-пропускного пункта возвеличивалось религиозным комплексом на азиатском берегу пролива, который назвали просто – храм Иерон. Это – Святилище, особо важное священное пространство и прибежище, которое ныне скрывается под византийской крепостью Йорос, на небольшом полуострове, сужающем вход в Черное море.
На другом берегу Босфора эти первые поселенцы построили другой, менее значительный, храм, «европейский» или «византийский» – земное пристанище бога Сераписа, а возможно, прежде всего, богини Кибелы. По преданию, храм был возведен, ни больше ни меньше, самим Ясоном до того, как он отправился искать приключения в Черном море. По другим рассказам, его построил сын царя Беотии, Фрикс, который принес отцу Медеи, царю Ээту, золотое руно. Здесь совершали жертвоприношения сильные мира сего. В этом храме перед вторжением в Скифию сидел царь Дарий, обводя взором Понтийское царство. Благодаря глубокой гавани (ныне бухта Макар, а в эпоху Античности – гавань Фрикса), куда сливались воды естественных источников, это место стало важной остановкой перед длительными путешествиями. При прохождении гавани Фрикса к Эгейскому морю с конца сентября ставки процентов по ссудам для торговцев были выше в связи с повышением риска нападения пиратов, а также – плохой погоды{99}.
Существовавший в городе календарь также свидетельствует о влиянии, какое акватория оказывала на жизнь Византия. Июнь назывался Bosporios, в этом месяце проходил фестиваль Боспория. Судя по одной любопытной записи, во время этого летнего фестиваля проводились игры, в том числе забеги, во время которых обнаженные юноши несли факелы{100}. Названия других месяцев содержали намеки на буйную природу города: февраль был месяцем Диониса, сентябрь – Malaphorios, «несущий яблоки». Глядя на религиозные артефакты, фрагменты жертвоприношений, надписей и святынь, сохранившиеся в центре города (там, где ныне стоит большой Стамбул), а также вдоль берегов Босфора и Золотого Рога, мы понимаем, насколько этот многообещающий город был ценен во всерасширяющемся мире – и ценность эта была ниспослана небесами.
В IV в. до н. э. по мере того, как повсюду возникали все новые геополитические угрозы (на некоторое время Византий стал игрушкой в руках царя Мавсола, который властвовал над большей частью западного анатолийского побережья – мощь сохранившейся каменной статуи боевого коня с мавзолея этого правителя из Карии, явствующая из набухших вен, покрытой буграми шеи, не оставляет сомнений в масштабности его честолюбивых устремлений), в Византие уверовали в своеобразную сверхъестественную защиту – ведьму Гекату.
Геката почти наверняка родом с Ближнего Востока, возможно, из Карии. Считалось, что эта могущественная, почитаемая богиня-ведьма – покровительница пограничных миров. Возможно, поэтому в знак почитания ей в жертву приносили тех, кто сторожит земные ворота и границы, – собак. Собак в храмах Гекаты не только приносили в жертву, их еще и освящали. Должно быть, все небольшие храмы Гекаты, которые во множестве располагались по всему периметру Византия неподалеку от ворот, оглашались собачьим лаем, тявканьем и воем. В благодарность за покровительство городу и его жителям в честь Гекаты воздвигли статую, которая возвышалась над Босфором и называлась Лампадефорос («факелоносица»).
Еще ее изображения появились на монетах, которые чеканили в городе, и она, как ни странно, до сих пор незримо присутствует в Стамбуле – это ее звезда и луна украшают кроваво-красный турецкий флаг. В неспокойные времена символы Гекаты оказываются повсюду – ими драпируют общественные здания, они развеваются на мостах, офисах и над станциями метро.
Византийская монета примерно I в. до н. э. – I в. н. э. Считалось, что богиня Геката – покровительница города. Ее символы – луна и звезда, их изображение повторяется на флаге современной Турции
В IV в. до н. э. считалось, что Геката проявила свою истинную сущность и явилась на помощь городу в борьбе с новым врагом, македонцами{101}.
Вам нередко нужны те, кого вы отталкиваете. Филипп Македонский, некогда союзник Византия, был человеком неуправляемым, со здоровой жаждой к расширению своих владений. В 356 г. до н. э. он завоевал Фракию и основал Филиппи, город, который через триста лет будет площадкой перелома в борьбе между Октавианом и Антонием с одной стороны и Кассиусом и Брутом с другой, а еще через сотню лет – первой европейской христианской общиной святого Павла. Объединив свое царство на территории нынешней Северной Греции, он обрел власть, позволявшую ему копить предметы роскоши. В его гробнице обнаружились головы Медузы для защиты, покрытые позолотой кожаные латы, изящные серебряные кувшины для вина, золотая диадема – такой тонкой работы, что дубовые листья и желуди трепетали на ветру, – а также доспехи с устрашающими изображениями осады Трои. Филипп II Македонский всем дал понять, что с его именем придется считаться.
В 340 г. до н. э Филипп отправился в Византий. Там он с выгодой употребил специальные знания своего недавно созданного инженерно-механического корпуса, применив новые, чертовски боеспособные осадные механизмы, в том числе торсионную катапульту, конструкция которой заключала огневые средства. Под покровом ночи он попытался с ходу покорить город.
Не вышло. Филипп атаковал и держал Византий под осадой без малого год. Фактически это было поражением: рассказывали, что македонцев, пытавшихся прорвать оборону города, выдал собачий лай (собак, как утверждали, направила покровительница городских стен Геката, которая также по волшебству зажгла факелы, осветив ими небо и показав, какая опасность грозит городу){102}. Но, судя по всему, Филипп всегда понимал, что ему ни за что не взять такой удобный плацдарм греков, город с огромной экономической значимостью благодаря контролю над проливом. На самом деле это была провокация с целью втянуть Афины в войну{103}.
Афины, опасаясь, что пути доставки зерна (из бассейна Дуная, Восточного Крыма и с азовского побережья) через Черное море и по Босфору будут перекрыты, своевременно пришли на помощь Византию. И их опасения подтвердились. В том же году неподалеку от священных мест храма, который якобы охранял раскинувшиеся перед ним воды, Филипп захватил весь перевозивший зерно афинский флот (всего 230 судов, принадлежащих Афинам и их союзникам) – кощунственная выходка, которую называли самым «беззаконным поступком» македонского царя{104}. Филипп потопил все афинские суда – а их было 180, – продал все находящееся на них имущество, а древесину пустил на осадные механизмы. Вернул он лишь те корабли, что были с Родоса, Хиоса и из Византия.
И тут вновь оказывается, что события в Византии, по случайности, стали двигателем истории. Пока Филипп был в Босфорском проливе, его сына Александра, которому было всего 16, назначили регентом, и он тут же нашел, чем заняться: двинулся в поход против фракийских медов, чтобы основать, к примеру, город Александруполис. Хотя Александру и приписывают (наверняка незаслуженно) создание в Византии Стратегия – военного учебного полигона, – на самом деле во всех дошедших до нас источниках говорится о том, что этот блестящий исторический деятель и новатор попал в Азию через Геллеспонт, а не через Босфор. Вполне логично, что чрезвычайно энергичному молодому человеку нужны были новые поля сражений – вместо тех, что уже пометил его отец. Однако Византия на пути блицкрига Александра не было. Боевой флот, который Александр оставил защищать Геллеспонт, не мог похвастаться победами, поэтому он велел своим людям выгребать из Босфора и идти к Дунаю. При жизни Александра музыкант и остряк Стратоникос пренебрежительно называл Византий «подмышкой Эллады»{105}.
Затем Александр обрушился на Вавилон – ведь именно в Месопотамии найдешь настоящие богатства. Когда Вавилон покорился этому завоевателю, серебряные алтари ломились от ладана и благовоний. В дар ему несли заключенных в клетки львов и леопардов, а улицы были усыпаны цветами. В Северном Египте Александр повелел основать и назвать в свою честь большой город, Александрию. В этом городе будет располагаться одна из крупнейших библиотек на всей планете – в свое время она окажется в распоряжении христианского Константинополя.
Возможно, Александр и обошел Византий стороной, однако он сделал городу подарок. Наследие подвигов человека, которого мы помним под именем Александра Великого, сохранилось на широких просторах государства Селевкидов, названного так по имени любимого полководца Александра, Селевка. Во времена своего расцвета это государство раскинулось от Ближнего и Среднего Востока до северной части Индийского субконтинента. Вот так Запад пришел на Восток.
На камне в северной части Афганистана вырезаны дельфийские афоризмы. Император Индийского субконтинента Ашока издавал указы с параллельным текстом: на языках империи Маурьев и на греческом. В Гарге Самхите (трактате по астрологии на санскрите, сохранившемся только в виде фрагментов), где греки называются варварами, тем не менее превозносятся их знания в области астрологии. В регионе Гандхара сияющие улыбками Будды изображаются с греческими чертами лица. Именно этот сделанный Александром вброс греческого духа во многом и сформировал Византий, откуда это эллинское влияние и распространилось по всей Малой Азии и Кавказу, Индийскому субконтиненту и Среднему Востоку. Александр позаботился о том, чтобы в глазах Востока греки со своими городами не казались чужаками. Хоть он и обошел Византий стороной, зато вызвал актуальность этого города в далекой Азии.
Нет ничего удивительного в том пренебрежении, какое Александр, по-видимому, выказывал Византию. Однако много веков спустя язычник Александр воплотился в христианине-избавителе Византия. Один из патриархов этого города (который к тому времени назывался уже Константинополем), Иоанн Златоуст, писал, что те жители Византия, которые могли себе это позволить, носили золотые медальоны с изображением головы Александра в качестве амулетов. Александр связан с этим городом как загадочный «Филипп Великий» в труде Apocalypse of Pseudo-Daniel, написанном в Византии незадолго до IX в. н. э.:
«…[он] выступил и собрал свое войско в Городе на семи холмах [Константинополе]. И развязал войну, какой еще не бывало. И по улицам Города на семи холмах потекли реки крови… Четверка ангелов отнесла его к собору Святой Софии и венчала его на царство… а он, приняв от ангелов державу, подчинил потомков Измаила, эфиопов, франков, татар и все другие народы… После него правили четверо его сыновей: один – в Риме, другой – в Александрии, третий – в Городе на семи холмах, а четвертый – в Фессалониках»{106}.
Однако, несмотря на оттенок превосходства в этих взглядах из будущего, в исторической реальности во время эллинского периода городские стены Византия неуклонно подтачивались. После того, как в 334 г. до н. э. благодаря военному походу Александра против Дария III город «освободился» от персидского подданства, Византий был затем опустошен галлами, готами и персами, на него напали с Родоса – из-за того, что византийцы, чтобы платить дань, наложенную галльскими захватчиками, повышали сборы с судов, входящих и выходящих из Босфора. Городу удавалось держаться на плаву за счет чеканки собственных монет, господству над другими поселениями, например нынешней Яловой (что отличается жаркими веснами) на побережье Малой Азии, и хозяйничанью в Босфоре, который был для византийцев своего рода зоной свободной международной торговли.
Византий пользовался экономической поддержкой Птолемеев, унаследовавших некоторые земли Александра Великого, правивших из Александрии и старавшихся продолжать поставки мирры, нута и соленой рыбы через пролив{107}. Можно сказать, город процветал, ведь столь многие нуждались в нем. Тем не менее, при жизни еще примерно пяти поколений Византий упоминался, в основном, в связи с чужими устремлениями. А потом этот греческий город оказался в распоряжении одного из величайших творцов истории всех времен. Хотя Византий – город, который, как и его прообраз, стоит на семи холмах, – и правда будет носить гордое имя Нового Рима, его участь – быть беспомощной игрушкой в руках сильных мира сего и олицетворением новой мощной средиземноморской державы, Рима.
И все же именно благодаря римскому влиянию и мысли перед Византием открылось какое-то будущее. Во II в. до н. э. был проложен превосходный тракт, который вел из Диррахия (ныне Дурреса, второго по величине города Албании) на Адриатическом море и назывался Эгнатиевой дорогой. Она стала первой дорогой, пересекающей Балканский полуостров, и более 2000 лет оставалась главным путем, ведущим из Рима в город, ныне называемый Стамбулом.
Изначально этот тракт предназначался для усмирения потенциально смутной провинции Македония, а план его подготовил некий Гней Эгнаций, примерно в 146 г. до н. э. бывший проконсулом этой провинции. Этот исключительно важный объект инфраструктуры, проходивший по территории Центральной Европы и служащий инструментом контроля, будет иметь революционное значение на всех трех исторических этапах этого основанного Византом поселения – в бытность его Византием, Константинополем и Стамбулом. Это – дорога, соединяющая Ионическое море с Босфорским проливом, ангелом-хранителем, приносящим счастье этому прибрежному городу.
Византий уже перестал быть лишь перевалочным пунктом. Благодаря сметливости и стремлениям Рима и благодаря его любимому детищу, Эгнатиевой дороге, Византий должен был обрести жизненно важные для него пути сообщения.
Эгнатиева дорога