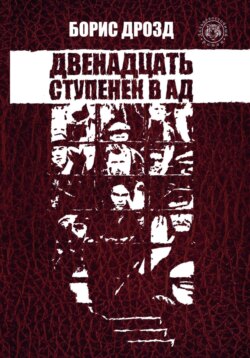Читать книгу Двенадцать ступенек в ад - Борис Дмитриевич Дрозд - Страница 3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕНИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЗАГОВОРА
I ТРЕВОГИ ТЕРЕНТИЯ ДЕРИБАСА
ОглавлениеАпрель-май 1937 года
Начальник УНКВД СССР по Дальневосточному краю Терентий Дмитриевич Дерибас не только главный НКВДэшник огромного края, на котором разместилась бы вся Европа, но и главный пограничник его обширных границ, расхаживал по своему огромному кабинету с большими окнами, выходившими во двор на улицу Волочаевскую. Он размышлял о последних, уже свершившихся событиях в стране и в подвластном ему Дальневосточном крае. Это был уже пожилой человек, чрезвычайно маленького роста с густой седеющей шевелюрой на голове и пышными, такими же седеющими усами.
Миновал только месяц с лишним, как закончился февральско-мартовский пленум, явившийся важнейшей вехой, как в общественно-исторической, так и обычной жизни всей советской страны. Назревали масштабные перемены, связанные с невиданной радикальной политической реформой советского общества, чему предшествовали не только открытые политические московские процессы тридцать пятого и тридцать шестого годов против оппозиции, но и перестановки в высших эшелонах советской и партийной власти, а также смещение с поста Ягоды и назначение на этот пост Ежова . В декабре 1936 года советская страна приняла первую Советскую конституцию, которую потом историки назовут сталинской конституцией. Она была утверждена в январе 1937 года на восьмом съезде Советов. На новом этапе, вступив в 1937 год, сталинское руководство готовило масштабные выборы в Верховный Совет, – впервые в советской стране были объявлены выборы без всяких сословно-классовых ограничений, «для всех граждан СССР», притом, на альтернативной основе. Советская страна (по главным образом властная партийная верхушка на местах) готовилась к этим выборам с различным настроением: кто со страхом перед переменами в судьбе и в карьере (вдруг не изберут?), а кто и с надеждами на долгожданную демократизацию политической и общественной жизни страны.
Но февральско-мартовский пленум поразил всех, кто ждал этих выборов и надеялся на важные политические реформы. Ожидавшиеся глубокие политические и общественные перемены обрели совсем другой поворот. На этом пленуме Сталин выступил два раза – 3 марта с докладом «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников». И 5 марта с заключительным словом. Главной мыслью Сталина была та мысль, что по мере успехов социалистического строительства классовая борьба не оканчивается, а наоборот обостряется. «…надо покончить с оппортунистическим благодушием, исходящим из ошибочного предположения о том, что по мере роста наших сил, враг становится будто бы ручным и безобидным. Такое предположение является отрыжкой правого уклона, уверяющего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм, что они станут, в конце концов, настоящими социалистами. Не дело большевиков почивать на лаврах и ротозействовать. Не благодушие нам нужно, а бдительность, настоящая большевистская революционная бдительность. Надо помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за крайние средства в их борьбе с Советской властью. Надо помнить это и быть бдительным».
А в марте этого же года сразу же после пленума по инициативе Сталина состоялось совещание руководящих сотрудников НКВД всей страны по вопросу борьбы с «врагами народа». По итогам совещания руководящему аппарату местных региональных управлений НКВД было рекомендовано увеличить свой штат вдвое, «искать и брать людей от станка, с производства, мало у нас рабочих и крестьян в органах» – это было новым и неожиданным направлением политики нового руководства НКВД, а значит и Политбюро со Сталиным. Денег на новую инициативу Политбюро не жалело.
Чтобы привлечь новые кадры, почти вдвое были увеличены оклады сотрудников НКВД, которые достигли, а по некоторым должностям даже превысили оклады партийной номенклатуры. НКВД становилась привилегированной закрытой кастой, устанавливающейся над партией, над правительством, над советскими и прочими организациями и учреждениями.
Из всего хода последних политических событий Дерибасу было ясно, что готовится серьезная, масштабная, причем, кровавая операция, под которую нужно набрать и за короткий срок обучить, подготовить новый штат оперативников и следователей «от станка». То есть взять людей «с улицы», не готовых ни морально, ни политически, ни профессионально вести оперативно-следственную работу. И в два-три месяца «натаскать» их на поиск и разоблачение «врагов народа».
Терентий Дмитриевич понял, что теперь прольется большая кровь. В Москве недовольны работой дальневосточных органов безопасности именно потому, что здесь крайне мало дел заведено по борьбе с «врагами народа», мало их тут выкорчевывают, мало находят, мало казнят и сажают. Хоть убейся, хоть костьми ложись, а добудь этих самых «врагов» живыми или мертвыми. Лучше живыми, чтобы можно было их потрошить и добывать имена новых «врагов». Кремлевское руководство подозревает на Дальнем Востоке о существовании скрытого троцкистского подполья и связанного с ним заговора военных и высоких должностных лиц в партийных, советских и хозяйственных кругах по всему краю, и поэтому отправило на Дальний Восток оперативную группу из центрального аппарата НКВД во главе со старшим майором государственной безопасности Арнольдовым и под общим управлением комиссара государственной безопасности второго ранга Мироновым для помощи местным органам безопасности. Бригада уже прибыла в Хабаровск и приступила к работе. По мнению Дерибаса, московские следователи будут рыть землю носом, чтобы докопаться до «заговорщиков», вредителей, шпионов и прочих «врагов народа». Аресты пойдут пачками.
Приезд московской бригады Дерибас рассматривал как «карательную операцию», как покушение Москвы на его профессиональную состоятельность и доверие, вмешательство в его с Блюхером епархию, где только они одни были хозяевами края, не исключая, разумеется, и Гамарника. Как сокрушение его покоя и сложившегося порядка жизни.
Дерибас уже достиг всех возможных вершин власти, материального благополучия и довольства собой и своею жизнью. И начинавшаяся Сталиным и его ближайшим окружением новая встряска и перетряска общества с новыми неизбежными репрессиями никак не соответствовала его теперешнему состоянию покоя, довольства своим положением и своею жизнью. И эта новая инициатива сверху, чему предшествовало, как сразу догадался он, снятие наркома внутренних дел СССР Ягоды осенью 1936 года и назначение Ежова, говорила о том, что пришел конец и покою и всему сложившему порядку его жизни. И новый поворот, («переворот» как называл его Дерибас про себя) верховной власти, сулил не только новое личное беспокойство, но и новые нажимы Москвы на местную власть с требованием ужесточения и без того жестокого режима в отношении всех действительных и возможных противников власти.
После бурной революционной молодости с ее Красным террором, Гражданской войной, расстрелами, трибуналами, жаждой выслужиться, схватить новую должность, более высокую, новое звание, новую награду или премию; после не менее бурной, хотя и короткой коллективизации дальневосточных крестьян с ее расстрелами, высылками, судами «тройки» и вынесением неизбежных расстрельных приговоров, пожилой чекист, замотанный к тому же необходимостью по своей высокой должности инспектировать едва ли не каждый месяц пограничные заставы и строящиеся укрепрайоны, а также многочисленные, все разраставшиеся лагеря с их стройками (в основном железных и автомобильных дорог), – после всего этого Дерибас как-то по-особенному стал ценить простые человеческие радости: любить свою молодую жену (почти на тридцать лет моложе), восторгаясь ее женской прелестью, сюсюкать с крошечным, двухмесячным сыном, умиляясь до слез такому чуду, как рождение ребенка, «в мои-то годы стал отцом, давно разменял пятый десяток» (ему было 54 года), прогуливаться с женой в садике своего особнячка, с гордостью катить коляску по аллее или гулять с женой под руку по улице Карла Маркса (а иной раз и по улице Серышева, куда выходила прогуляться для моциона вся военная элита края со своими женами, чтобы женам можно было покрасоваться друг перед другом новыми нарядами и украшениями); а то еще сидеть на скамеечке в садике своего особнячка, слушать треск сорок или поутру слушать разноголосицу скворцов и ощущать полной грудью простое человеческое счастье. Как если бы всего этого в его жизни никогда не было или было так давно, что уже и не вспомнить. И потерять все это было бы глупо, досадно, больно.
Этот душевный (и жизненный тоже) переворот произошел в Терентии Дмитриевиче совсем недавно, после того, как он близко сошелся с Еленой Комаровой, сотрудницей его секретариата, родившей в феврале 1937 года ему сына, которого по ее настоянию, назвали Германом.
Женитьба на молодой женщине существенно повлияла на многое в жизни Терентия Дмитриевича. У него сложилась новая жизнь, помимо той, по которой протекало все его прежнее повседневное существование: рутинная служба, инспекции по заставам и дальневосточным лагерям (начальником которых он являлся) тяжкие по впечатлениям и длительные по времени; потом «тройки», попойки, кутежи, потом оперчекистские совещания, разработка новых операций по противодействию японской агентуре, заседания в бюро крайкома – неизбежные обязанности. Теперь у него появилось гнездышко, которая свила молодая жена, куда он теперь охотно и бежал, спешил со службы, из командировок, посылая Леночке телеграммы: «Спешу домой, рыбонька моя! Не чаю до тебя добраться».
Он видел, как она твердо и последовательно своей мягкой женской властью прибирала к рукам и его, и его жизнь, хозяйничала в ней, устанавливала в ней свои правила, создавала семейный уклад в жизни руководителя высокого ранга, давно не имевшего семьи, боролась с его пьянством, кутежами, отборной матерщиной, (а он слыл непревзойденным матершиником), убеждала в том, что пьянство и матерщина – от бескультурья, и оно не красит руководителя такого ранга, как он. И это нравилось ему! Что значит женщина! В особенности, что значит женщина, когда под старость влюбишься в нее, обожаешь ее до слез, до умиления в душе, когда она входит в твою жизнь и становится хозяйкой в ней!
– Чекисту трудно без водки, рыбонька, – нередко жаловался он ей. – Крови много, горя, криков много, жалоб много, от начальства нагоняев много, работы много, а средств снять или облегчить нагрузки немного, одно-единственное.
– Пьянство от бескультурья и ограниченности кругозора твоих сотрудников… Надо повышать культурный уровень, читать книги, посещать театры, кино, учиться, учиться и учиться, как говорил наш Владимир Ильич Ленин.
На это он только усмехался в усы.
Как бывшая сотрудница его секретариата, она была в курсе не только всех его дел, но и всех важнейших дел, происходящих в и в крае, и в стране. Елена в выступлении Сталина на февральско-мартовском пленуме каким-то своим женским чутьем почувствовала угрозу не только своему положению жены такого большого начальника, но главным образом положению мужа, который занимает важнейший пост в чекистской иерархии, но и ухудшению самой обычной, бытовой стороне жизни.
– Прежней жизни уже не будет, Терентий, – уверяла она его. – Товарищ Сталин всех призывает в своем докладе к бдительности. Это в докладе его главная мысль. Вот ты представляешь себе, когда все будут бдительны от мала до велика, а не только коммунисты. А что такое бдить? Значит, подозревать, заведомо быть настроенным на подозрение, настраиваться на то, что вокруг нас враги, а ты только ходи и высматривай, вынюхивай, выслушивай, кто и что сказал, кто и что сделал, кто к кому в гости ходит, кто и с кем дружбу водит. Ведь теперь и слова не скажешь от себя. Люди не умны в большинстве, трусливы, завистливы, зависимы от чужого мнения, особенно от начальства, не критически относятся к себе и ко всем словам, которое говорит вышестоящее начальство. А начальство критике нельзя подвергать, критика у нас зажата донельзя, только покритикуй кого-то, и сразу же на тебя подозрение падет как на антисоветского элемента. Но так ведь невозможно будет жить, Терентий! Ведь сейчас люди станут клеветать друг на друга под предлогом большевистской бдительности. Мы теперь даже друг другу не будем доверять.
Он ценил ее ум и проницательность, хотя и сам прекрасно это понимал.
Тут как раз в кабинет заглянула жена – в шляпке, в норковом манто, в ботиках, модно одетая, – высокая, тонкая, изящная, хрупкая, с заколотыми булавками на затылке волосами, так что казалась еще выше ростом ( она была на голову с гаком выше мужа ростом).
– Терентьюшка, мы пошли гулять, – сообщила она ему.
Это они пошли с сыном гулять в садике управления.
– Идите-идите, рыбонька моя! – ответил он.
– На обед чтобы домой пришел, Терентьюшка, у нас украинский борщ и твои любимые свиные отбивные. Нечего по столовкам шляться, да всухомятку питаться, совсем желудок себе испортишь.
– На борщ обязательно буду, рыбонька! – отвечал он, улыбаясь ее командирскому тону и любуясь ее женской прелестью.
Для того чтобы сообщить ему об обеде, она могла бы ему позвонить, не нужно было являться в управление. Но он понимал ее женское тщеславие, эту «бабью» слабость, и она умиляла его. Она пришла не только затем, чтобы сообщить ему об обеде, но затем, чтобы покрасоваться перед сослуживицами, гуляя под окнами управления, прокатывая коляску с ребенком, шагая по коридорам и лестницам, чтобы подразнить их московскими нарядами – платьем, шляпкой, изящной, но теплой, выстланной изнутри лебяжьим пухом, норковым манто, надетым поверх платья, меховыми ботиками, все это куплено мужем в торгсине в Москве. Кто она была прежде? Рядовая сотрудница его секретариата, любовница, может быть, одна из многих (он был силен и неутомим в половом отношении, как многие карлики), но вот она забеременела и родила ему сына, и он стал называть ее женой (хотя они и не расписались) и поселил в своем небольшом особняке на улице Карла Маркса.
Стоя у окна и глядя вниз, во двор, где у коляски с ребенком в ожидании, когда вернется хозяйка, стояла кормилица и нянька Анна Филлиповна, Терентий Дмитриевич умильно улыбался, и даже слезы навернулись на глаза. Вот из подъезда вышла «рыбонька», быстро спустилась по ступенькам, и они вдвоем с кормилицей-нянькой, которая катила коляску, отправились гулять. Эти слезы…чисто стариковские слезы иной раз показывались на его глазах и от любви к жене, к сыну, к маленькому человечку, от умиления, а иной раз и от жалости к людям. Да-да и от жалости к людям, умягчилось теперь сердце, ушла жестокость.
«Чудак человек, – думал он иной раз о Сталине, о том, что опять он затеял какую-то новую политическую игру или авантюру, (вроде двух открытых московских процессов над оппозицией и назревавшего третьего процесса над арестованными Бухариным и его компанией), которая взбудоражит всю страну, не иначе. – Неугомонный чудак. Если не сказать больше. Все ему не так, все неймется, все не по нему. Одинокий, к шестидесяти годам уже подошел, старость на носу, а с людьми расправляется без всякой жалости. А почему? Без любви живет, без приязни, нелюбимый, по слухам, даже собственными детьми. Тот еще деспот. Яшку, бедолагу, бил сапогами, топтал за то, что курить стал парень. (Это Елена говорила о том, что в Москве слышала в нашем кругу о том, что он бил своего Яшку). А пример с кого парень брал? С отца, который смолит табак день и ночь. Изводил его за то, что женился не на той, на ком бы он хотел. А кто же из сыновей женится на той, которая может понравиться отцу? Главное, чтобы она нравилась сыну! У каждого же своя судьба, чтобы пройти свой круг и шишек себе набить на лбу – и это непреложно. А затем презирал, третировал мальчишку, когда тот стрельнул в себя, чтобы жизнь свою кончить от отцовских насмешек. Так отец еще больше разозлился. Нет, ничем Сталин не лучше остальных, простых отцов, даром что вождь. О, отцовство – та еще штука! Когда отец бьет своих сыновей, это о чем-то да говорит. Битьем сына уму-разуму не научишь. Ваську, говорят, тоже не жаловал, совсем еще мальчугана. Вообще, судя по всему, дети не радовали Сталина – еще одна зарубка на его сердце. А дети должны радовать стареющих родителей.
По слухам, и Сталина бивал отец, будто бы даже мать бивала, хоть и любила его без памяти, а это о чем-то да говорит. Все корни поступков и характера человека – в семье, в том, какой жизнью он жил в детстве в своей семье. Это он, Дерибас, и по себе, по своей семье знает, где вырос, несладко ему жилось. Ему-то, Дерибасу, есть чем гордиться: сына Сашку воспитал, выучил, пошел в железнодорожники, тут в Хабаровске паровозным депо командует, радует отца. И другой сын, Андрюшка, который в Сибири остался с бывшей женой, тоже радует отца, по научной части пошел. Нет-нет, не нажил Сталин мудрости, подойдя к шестому десятку жизни! Жену загубил, самоубийством кончила, а почему, спрашивается, загубил?
По слухам, которые имели хождение в чекистской среде (а в Кремле уши и глаза есть), в те еще времена, когда могли свободно критиковать высшую власть и когда все «вожди» были еще равны и была даже оппозиция и не относились к Сталину подобострастно, не делали из него Бога, в те еще времена ходили о Сталине слухи о его неудачной семейной жизни, что нелады у него в семье, не ладил он с женой и не живет он со своей Надей. Откуда появились эти слухи, и кто их распространял – было неизвестно. Скорее всего, их распространяли его недоброжелатели из рядов оппозиции. А почему не ладил с женой? Был старше своей Нади на двадцать с лишним лет, а никакой мудрости так и не нажил, чтобы управиться и в ладу жить с женщиной. Не сошлись характерами? Ну, так отпустил бы он свою Надю и женился бы снова или завел бы себе подругу. Зачем деспоту мучить женщину? Нет худшего зла, чем одинокая старость без любви, без приязни, без теплого домашнего очага. Вот это плохо для страны, плохо для всех нас. А женился бы снова, – подобрел бы, помягчел, стал бы добродушнее, и жизнь бы по-другому открылась, и люди бы не дрожали перед ним, затаивая ненависть и зло. Не страх надо нагонять, а умягчение.
Удачная женитьба – о, она много значит! Вот и Блюхер женился под пятьдесят лет на вчерашней школьнице и доволен, счастлив, детишек нажил с молодой женой. О, женитьба многое меняет в человеке, в его характере! Когда под старость женишься и простое человеческое ощутишь, как же по-другому жизнь открывается! Особенно, когда у тебя малыш или малышка родится. Нет, чудак, чудак! А ведь они почти ровесники, и мог бы Сталин тоже еще раз жениться, как он, Дерибас, как Блюхер. Старику потешиться с молодой бабой – это великая штука. Жить с молодой бабой – не только властью своей брать, положением и жалованьем, но и чем-то другим. А что это «другое»? Мудрость, мудрость! Да-да, она самая. Это очень скверно, когда все тебя не любят, а только боятся и дрожат перед тобой. О, это он, Дерибас, на себе хорошо прочувствовал и в Казахстане и здесь на Дальнем Востоке!
По слухам, рыдал на похоронах своей Нади, а что сказал потом? «Предала она меня, предала!» Вот ведь как. Не о ней подумал, что совсем ушла из жизни, а о себе. О себе, о себе! Вроде как бросила она его в трудную минуту, да эти «трудные минуты» в его ранге у государственного человека каждый день. А почему не уберег? Когда стукнет тебе пятьдесят лет, в мужике эгоизм должен бы изжиться, ан нет. Эгоистом так и остался. Эгоистом и последним деспотом. Все будет так, как он считает нужным. Слух шел, что развестись с ним хотела Надя, но он не отпустил ее. Уж лучше бы отпустил на все четыре стороны и женился бы снова. Конечно, это только легко говорить, а когда прикипишь к бабе, ни за что не отпустишь. Но сколько уже прошло годов, как нет его Нади? Семь или восемь? Самое время, чтобы уже остыть от прежней любви и привязанности к женщине. А женился бы снова – многое бы переменилось. А так потерял свою Надю и озлобился, ожесточился. Пожалуй, на женщин в особенности ожесточился. Так и останется одиноким, озлобленным на стариком, ожесточившимся сердцем – это факт. И это скажется, ох, как еще скажется! И умягчать некому это ожесточившееся сердце. В молодости и даже еще в зрелом возрасте эта бессемейная жизнь без любимой женщины еще как-то сходит с рук, не сказывается так резко и сильно на характере человека расстроенная или неудавшаяся семейная жизнь, обида или злость на женщин, из чего вырастают большие пороки. А ближе к старости, к порогу которой подошел и Сталин, да и сам Терентий Дмитриевич, отсутствие в жизни женщины и семейного очага сказывается самым отвратительным образом на характере мужчины. Сам Терентий Дмитриевич это остро стал понимать только когда ему подвалило к пятидесяти годам и когда в его судьбе появилась подруга жизни и родился ребенок почти у старика.
По опыту своей жизни и, прежде всего, детства и юности, первой молодости Дерибас знал, сколько же маленького роста мужчины знавали в детстве, в отрочестве, в юности обид, унижений, оскорблений и от сверстников, и от старших, от родственников из-за своего роста! Сколько всего этого пришлось пережить ему, Дерибасу, мучительных минут страдания из-за своего роста! Дразнили его, Дерибаса, то карликом, то обзывали недоноском, «ушастым». И от этого приходилось затаить обиду, копить, претерпеть и пережить ее. Сколько уколов уязвленного самолюбия, раздувавшегося и распухавшего с годами!
А сколько унизительных, оскорбительных минут, задевающих самолюбие, пришлось пережить ему от женщин, от их пренебрежения, невнимания, отказов, насмешек! От женщин, от женщин особенно!
Это правда, не удался ростом, особо и лицом-то не вышел. Но разве не справедлива поговорка: «Мал золотник, да дорог?» А разве Сталин не маленького роста, не «карлик»? Разве Ленин не «карлик»? С Лениным лично встречался, повыше его, Дерибаса росточком, но ведь немного, тоже ведь по обычным меркам «недостаточный мужчина». А пошумевший на Украине батька Махно? А вот еще говорили про Наполеона, что не вышел он ростом, отчего страдал в юности и в первой молодости. Что за судьбы такие у маленьких людей, делающих большую политику? Вот еще слышал: маленькие ростом – всем, всему роду людскому мстят за свою человеческую и мужскую недостаточность. Вот Леночка говорила, что читала где-то про Наполеона, будто мстил он женщинам тем, что имел их прямо в кабинете, не снимая шпаги. Именно в том-то и унижение, что «не снимая шпаги». А за что мстил? За свое унижение в юности и в молодости, что пренебрегали им женщины, им гренадеров подавай. Может, от этих унижений и рождаются маленькие деспоты? И только наивные люди могут думать о том, что Сталина не коснулось это общее свойство «недостаточных людей». И полагают, что и Ленин – тоже «недостаточный человек» – будто бы не был деспотом. Был, был, да еще и каким деспотом!