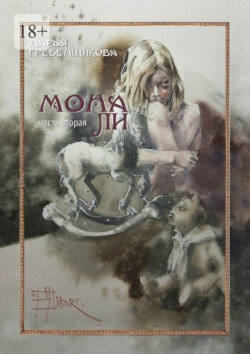Читать книгу Мона Ли. Часть вторая - Дарья Гребенщикова - Страница 3
Глава 2
ОглавлениеКафе со скромной вывеской «Привет» смело можно было бы назвать красивым грузинским именем, скажем, Шаво Мерцхало, – «Черная ласточка». Но… выбор в СССР был скромный. Впрочем, внутри было так хорошо, и так гостеприимен был хозяин Реваз, и так великолепна грузинская кухня, что в это кафе, расположенное рядом с железнодорожной станцией Кулебякино, приезжали те, кого Реваз называл своими друзьями – актеры, художники, врачи, музыканты, – московская интеллигенция, и особо – альпинисты и горнолыжники. На скромных деревянных столах, крытых невзрачной клеенкой, дымилась чахиртма в общепитовских тарелках, а для хорошо выпивших накануне – хаши в глубоких чашах. Зелень! Ах, какая зелень была на столах Реваза! Мог ли вынести нос такое благоухание? Кинза, базилик, тархун, петрушка, цицмати соседствовали с сулугуни и надуги. А бадриджани и лобио подавали такое же, как и в кафе у подножия горы Джвари. Даже те, кто прежде знал лишь шашлык и цыплят табака, открывал у Реваза такие гастрономические изыски, что произносил «сациви» и «хинкали», закатывая глаза и цокая языком. Хачапури у Реваза дышали и таяли даже на тарелке, и мегрельские, и имеритинские – и запивали их «Хванчакорой» и «Мукузани», и шипело «Боржоми» в потных бутылках, и прозрачная чача делала городских московских мужчин настоящими – мужчинами.
Мона Ли, умея обходиться без пищи, хорошую кухню любила и ценила, насколько это может девочка, выросшая на еде из советской «Кулинарии». И сейчас, войдя в зал, она вдохнула запах и поняла, что голодна, как никогда прежде. Навстречу им вышел сам Реваз, пожав руку Архарову, хлопнул его по плечу:
– Здравствуй, Сандро, друг! Почему давно не был? Кто кормил тебя лучше меня, а?
– Ревазик, – Саша обнял его, – разве родился на свет мужчина, лучше тебя спасет от голодной смерти усталого путника? Кто сделал из продуктов, родившихся в благословенной Грузии – жизненную философию? Кто напоил нас надеждой и любовью, кто дал нам силы вынести измену прекрасной женщины, отвергнувшей чистое и доброе сердце, а? Даже тот, который только встал от стола, проглотит твои чанахи, и попросит еще!
Так они и стояли, хлопали друг друга по плечам, пока Мона не взмолилась: – Я хочу есть! Пожалуйста!
– Кто это? – Реваз прикрыл глаза ладонью, будто ослепленный красотой Моны, – Сандро? Ты похитил царицу! Немедленно уезжай, забирай её – и уезжай!
– Реваз? Ты что? – Архаров обернулся к Моне.
– Уезжай! – гортанно закричал Реваз, – или я украду ее у тебя! Или вызову тебя на дуэль, да?
Поняв, что это шутка, все трое расхохотались.
– Мона, – представил Архаров девушку, – моя Мона.
– Э-э-э! Кто же ее не знает? Я в кино хожу, дочери в кино ходят! Мы Мону Коломийцеву знаем, ждали-ждали! – и он проводил их к лучшему столику, у окна. Пока подавали закуски, Мона уже, не стесняясь никого, заворачивала зелень в лаваш, и ела с таким аппетитом, что Архаров залюбовался ею.
– Как ты все умеешь делать красиво, Мона… Мона моя. Тебе идёт абсолютно всё, и даже хлеб в твоих руках выглядит…
– Как торт, – Мона показала жестом, чтобы Саша налил ей минеральной воды, – Саш, говори попроще!
Подносили все новые блюда, и уже к шашлыку Мона до того наелась, что чуть не задремала над тарелкой.
– Выпей вина, – Архаров налил ей темного и густого, как кровь, вина.
Мона подняла стакан:
– Красиво как! Как гранат?! Или вишня? – И выпила. – Ой, я сейчас лопну, и я совершенно пьяная, – Мона откинулась на спинку стула. – Саш, а как ты думаешь, тут есть мороженое?
– Для тебя, моя сказка, Реваз достанет все – только пальчиком пошевели, и крикнул, приставив ладони рупором к губам, – Реваз?! Ревазик!! Тот подошел, расправил усы пальцами и склонился в комическом поклоне:
– Что изволите, моя королева?
– Я мороженого хочу, – сказала Мона. – Можно?
– Пломбир? Земляничный? Ореховый? С шоколадом? Крем-брюле? – Реваз сделал вид, что записывает пожелания Моны Ли в блокнот.
– Всё, какое есть, – Мона облизнулась. Архаров встал, и, чтобы не было слышно от соседнего столика, тихо спросил Реваза, – играют? Реваз кивнул.
– Сделай девочке сладкое, будь друг, а? Я буквально на полчасика. Реваз вздохнул:
– Сандро, я надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?
Мона уже съела мороженое, уже выпила чашечку шоколада, и лениво щипала виноград с кисти. Уже тихая обеденная публика сменилась вечерней, шумной, при больших, судя по всему, деньгах. Стало шумно, накурено, официанты сновали между столов, женский смех вспархивал то там, то тут, произносились тосты, а на эстраду вышли грузинские юноши, в черном, и негромко запели «а капелла». Мона, чуткая к музыке, с абсолютным слухом, буквально вытянулась – слушать, слушать! Незнакомый язык наполнял мелодию смыслом, и Мона видела белые шапки гор, цветущие долины, слышала говор ручья, бегущего между камней, видела зеленые склоны, женщину, идущую к колодцу с кувшином, видела бегущих детей, запускающих в в небо змея… Реваз, подойдя к Моне, проговорил тихо:
– Они поют «Кириалеса», это мегрельская песня, старинная.
– Как же это прекрасно, – Мона посмотрела на Реваза.
– Девочка! Ты плачешь?
– Это от радости. А где Саша, вы не знаете? – Мона Ли посмотрела на свои часики, – он должен был на съемки ехать. Про «Детский мир» она давно забыла.
– Саша? – Реваз оглядел зал, – не знаю. Вышел, наверное?
– Куда – вышел? – Мона приподнялась, – где он?
– Я не знаю, не знаю, детка … – Реваз кивнув кому-то, ушел в сторону кухни. Мона прошла между столиков, открыла дверь, вышла в коридор. Пошла, прислушиваясь к голосам. Тихо. Уткнулась в лестницу, ведущую вниз, спустилась, толкнула дверь. Заперто. Постучала. Никого. Тогда она отбила пальцами по дверному косяку мелодию песни «Сулико», слышанную только что, и дверь открыли.
– Проходи, – сказал хрипловатый голос, и она вошла. За столом сидели четверо. Архарова было трудно узнать. Абсолютно сумасшедшие глаза, дрожащие пальцы.
– Еще! – ему скинули карту. В тёмную…
– Саша? – крикнула Мона, – ты что тут делаешь?
– Бл … – Мона никогда не слышала, чтобы он ругался матом, – уйди! уйди отсюда! Кто пустил! Уведите девчонку! – он орал так, что Мона сама бросилась бежать, но не могла найти дверь. Кто-то, как и прежде, невидимый, вывел ее из комнаты, протащил за руку по коридору, потом – через зал, крепко держа локоть Моны под мышкой. Вытолкнув Мону из дверей, сказал:
– Марш отсюда, хоть слово скажешь…
– Я поняла, я поняла, – залепетала Мона и быстро пошла к станционным кассам. Зажгли фонари, и перрон выглядел совсем пустынным.
– До Москвы один, – Мона протянула мелочь кассирше, – а когда электричка? – Расписание смотри, – равнодушно ответила та и закрыла окошечко. Теплый августовский день исчезал, и стало ясно, что кончилось лето, и откуда-то задул ветер, и понеслась листва, как стайка обиженных птиц. Мона, съежившись, сидела на жёсткой станционной скамейке, и смотрела на проносящиеся к Москве и из Москвы поезда. В одних пассажиры занимали коридор, снимали вещи с полок, толпились, суетились, а в других – напротив, укладывались спать, пили чай, курили в тамбуре и брошенный окурок описывал алую дугу и падал на щебенку. Моне стало совсем тоскливо, мысль о том, что нужно ехать до Москвы, а потом в метро, и опять пересаживаться на электричку, уже – до Одинцово, так расстроила ее, что она ощутила себя одинокой, уставшей и страшно несчастной. Свистя и разрезая темноту снопом яркого света, подлетела электричка, вобрала в себя немногих пассажиров, Мона Ли прошла в вагон, села у окна, и, когда уже поезд начал набирать скорость, увидела, как на перрон выбежал Архаров, и быстро пошел, всматриваясь в мелькающие окна. Видно было, что он ищет Мону. Она отвернулась. Ненавижу его, – думала она, – ненавижу. Он ведь просто играет в меня, как в игру, я для него – красивая кукла, у которой нет сердца, которой не больно, когда ее бросают. Зачем он мне? Красивый? Ну, красивых много. Умный? Да нет. Добрый? Не то, чтобы очень. Что же я думаю о нем постоянно, я же ревную его бешено, и я хочу одного – быть с ним рядом. Спросить совета не у кого. Была бы мама жива, я бы… Мона вспомнила маму, и заплакала.
– Ай-ай-ай, – такая красивая девочка, зачем плачешь? – напротив нее сидела пожилая цыганка. Темные волосы её, уже с серебром седины, были убраны небрежно под платок, лицо её было сморщенным, как черносливина, и только глаза, те были молодые, глубокие, яркие, как маслины. Вороха надетых юбок на ней были грязные с подола, рваные, а на ногах были почему-то шерстяные чулки и галоши, – не плачь, не плачь, ручку дай, посмотрю, о ком убиваешься? Цыганка своей сухой, шершавой рукой приняла Монину узкую ладошку, раскрыла ее, стала водить пальцем, приговаривать, – молодого красивого любишь, женатый он, ой, худой он, все сердце тебе разбил, и не будет тебе с ним счастья, будет только горе, и не даст он тебе любви, только слёзы, нет, счастья нет с ним. – Цыганка заглянула в глаза Моны, – деньги у тебя есть, – сказала она утвердительно, – отдай мне, я к тебе другого приворожу, хорошего, а этот уйдет, сгинет … – Мона смотрела на цыганку, не отрываясь. Та протянула ей руку, – положи сюда, деньги бумажные, пошуршат – уйдут, уведут беду с собою, а тебе дорога поздняя, дорога опасная, отдай деньги, – сказала она повелительно. Мона смотрела в глаза цыганке, не моргая, будто испытывая её. Складки на лбу цыганки разошлись, кустистые брови поднялись, а глаза забегали – не могла она понять, почему же девушка не впадает в транс, не поддается гипнозу, смотрит своими прекрасными глазами и только чуть-чуть уголок рта дергается.
– Деньги отдай! – Страшным шепотом сказала цыганка, – отдай, говорю, деньги! В кармашке лежат, вижу! Отдай, а то такую правду скажу, жизни тебе не будет!
Мона, не отводя глаз, улыбаясь все шире, вытащила из кармашка сотенную и протянула цыганке. Та, схватив купюру с ловкостью обезьянки, взметнув пыль юбками, поспешила к выходу в тамбур, гортанными звуками скликая цыганят, попрошайничавших по вагону. Мона мысленно вычла еще одну сторублевку и уставилась в окно, в котором отражалась она сама. Вдруг лязгнули двери тамбура, и та самая цыганка, с лицом, расправленным от ужаса, добежала до Моны, и ссыпала на сидение скамьи кучу денег, каких-то перстеньков, цепочек, и буквально вылетела на остановке «Москва-Сортировочная».
Мона потрясла головой, будто приходя в себя после наркоза, убрала всю кучку в сумочку, посмотрела на свою руку – что в ней особенного? И, заметив, что пуговка на рубашке расстегнута, поняла, что так испугало цыганку. Ки-Ринь, обычно зеленовато-золотистый, горел ярким, живым, рубиновым огнем, а золотой рог его будто раскалился добела. Вот это да, – сказала себе Мона Ли, – наверное, я и впрямь – не такая, как все?