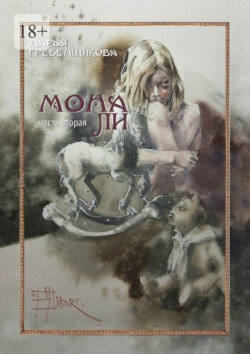Читать книгу Мона Ли. Часть вторая - Дарья Гребенщикова - Страница 8
Глава 7
ОглавлениеМона сидела в своем номере и дрожала. Теперь она четко знала, что хочет одного – чтобы Верховский приплыл на чем угодно, хоть на лодке, хоть на матрасе, сюда, на берег, куда выходили окна гостиницы, и тогда она пойдет по морю, навстречу ему. А он на руки её поднимет, и они уплывут. Куда уплывут – неважно. Подальше отсюда. Архаров никакого сравнения с Верховским не выдержал. Мона Ли еще не могла понять настоящих причин, по которым женщина выбирает одного, или другого – но чутко ощущала, что в Верховском – сила, отчаянное бесстрашие и какая-то страшная рана – там, внутри.
Верховский все еще оставался в ресторане, но шальная мысль пульсировала, и он уже решил, что делать, и как.
– Послушай, – он жестом подманил офицера, – кавторанг?
– Так точно, Семён Ильич!
– Вот, друг, могу попросить? Как мужика, а?
– Конечно, Семён Ильич! Да что хотите! Рыбалку в нейтральных водах?
– Да нет, нет, – Верховский подмигнул, – понимаешь, дело такое… Кап-два слушал, улыбался, головой кивал:
– Да в лучшем виде! Мы ж для вас! Мы же в поход, когда, без ваших песен? Мы – никогда! Вы ж наш, родной!
– Ну, и славно, – Верховский наполнил стаканы, – быть тебе капраз, обещаю! И они выпили, и Верховский опять запел.
Уже утро полыхало, одуряюще щебетали птахи, пахло морем, соляркой и розами – и это было прекрасно. Верховский спросил, где его номер – поспать бы часок, устал с дороги, и администратор сама побежала за ключами, и шла впереди, волнуясь бедрами, и только толстая ковровая дорожка глушила стук каблучков.
– Вот, пожалуйста-пожалуйста, Семён Ильич, – прошу вас, вот, тут люкс! Вид на Набережную, а тут…
– Уйди, милая, – ласково сказал Верховский – видишь, мужик устал?
В номере ожил и зазвонил телефон, но Верховский трубку не брал. Звонили и стучали в дверь – он спал, не раздеваясь – откинув голову на диванную подушку и ветер с моря надувал прозрачные занавески. Только под вечер перелезли через балкон друзья, нагнавшие Верховского другим рейсом Аэрофлота, и опять началась бесконечная пьянка, и голос Верховского, вырвавшись из номера, гулял по набережной Гурзуфа. Под балконом уже собралась целая толпа, скандировали:
– Браво, Сёма! Сёма! Бис! Семён Ильич, дай про танки!
– Нет, Ордынку, Ордынку!
Верховский вышел, раскланялся:
– Вы уж, товарищи, не невольте. Петь буду, что МОЯ душа просит, а вы слушайте. И не шумите! (понизив голос) – а то меня выселят, сами понимаете!
Когда устал, попросил чаю покрепче, прилег.
– Сёма, – лучший дружок Игорек Первухин сел в ногах, – верно ли разведка донесла, что у тебя тут червонный интерес образовался? По части разбитого сердца?
– Верно, – Верховский закурил, – и еще как. Но скорее, в бубнах – молодая дама, девчоночка совсем, но, скажу тебе – ахнул. Заграницей таких не видел, даже в Италии, а уж там бабы – сам знаешь.
– Мне откуда знать? – вечный комик, царский шут, Игорёк – плечами пожал, – мы дальше Урюпинска ни ногой, у нас и по Союзу выбор – не успеть за десять жизней. А кто у нас новая люпофф?
– Да ты видал, я с ней в «Красных кораблях» сейчас снимаюсь, – Мона. Мона Ли.
– Поди, кисти Леонардо?
– Бери выше, Игорек, тут Брюллов, не иначе. Хороша…
– Я знаю её, – кто-то, оторвавшись от стола, подсел к ним. – Это Архарова Сашки подружка, но что-то у них никак, вон, говорили, он в Сочах с другой был, балерина какая-то, она с горы, что ли упала?
– Так зачем она на гору-то полезла, – изумился Верховский.
– «Диагональ» твою посмотрела, и полезла, – Игорек изобразил, как лезут в горы. – Сёма, пришло время шашлыка, концерт сворачиваем, нас ждут в хорошем месте.
– Да, идем, – отозвался Верховский, – а девочка, говоришь, Архарова? Ну, это мы отобьем, нам, по амурной части, в эСэСэСэРе равных нет, а, Игорёк?
– Тебе-то точно, – и они вышли из номера, где продолжал надрываться телефон.
Верховский с компанией дошел до местного ресторанчика с хорошей кухней – все переулочками, темными, чтобы не быть замеченным – устаю я от публики, – говорил он, – но от народа – никогда. Гурзуф в апреле – сказочная красота, если погода стоит, а она – стояла. Столики вынесли прямо на тротуар, пили хорошее вино, шашлык подавали вполне достойный, от стола к столу сновали, присаживаясь то там, то тут – и местные, и киношные, и отдыхающие. Красивые женщины в вечерних платьях и высоких прическах смотрели на Верховского во все глаза – да нет, некрасив, неказист даже! Но, попадая в его «поле», глаз не могли оторвать, сидели – как намагниченные. Стешко, в кожаном пиджаке, разомлевший от вина, покуривал лениво, стрелял по сторонам глазами, надо было с Верховским обсудить сцену, но Юрий Давидович Семёна побаивался – знал, тот не любит, если влезть поперек настроения.
– Кстати, Ильич, – Стешко щелкнул пальцами официанту, – повтори нам? – Мы послезавтра едем на Тарханкут, решили там снимать финал, с кораблем, уже с погранцами договорились, дадут нам катерок, задуем его революционным цветом, думаю, хорошо получится, но вот тут, в Ялте и «Беллинсгаузен» стоит, трехмачтовый, есть соблазн на паруса замахнуться, не знаю…
– Паруса – хорошо, – Верховский потер виски – голова болит, – паруса, это по душе. Паруса девочки любят. В этом – многое. Это ж крылья…
– Ильич, ты ж романтиком никогда не был, – Юрий Давидович прополоскал горло «Боржоми», ты уж, скорее циник и скептик.
– Что ты! – развеселился Игорёк, – у Семёна теперь романтическая любовь! Он даже свою пассию завтра будет покорять на подводной лодке! Всплывет, перископом пошарит – и с аквалангом выплывет, как дельфин! – Игорёк расхохотался, кривя рот, выкрикивая фальцетом, – чудо-юдо морское! Держите меня… покоритель глубин… Ихтиандр!
– Заткнись. – Верховский занес руку, как для удара. – Иногда бы так и врезал тебе, за язык твой поганый.
– А кого соблазнять будем, – Стешко поспешил перевести разговор, – главного администратора Интуриста? Или красотку отдыхающую?
– Мону он соблазнить хочет, – Игорёк злился, – любовь с первого раза. Девочка, конечно, с царского плеча, не поспоришь. Любить, так королеву, да, Сёма? – Стешко так резко поставил стакан на стол, что донышко отвалилось и вода разлилась по столу:
– Семён, ты что? Она ж девчонка совсем, ей четырнадцать лет! Какие субмарины, она ж несовершеннолетняя!
– Да ладно, – недоверчиво протянул Верховский, – она мне сказала, что ей восемнадцать – вот, на днях исполнилось. Какие четырнадцать, что я, пацан, по-твоему? Не отличу?
– Я тебе завтра ее свидетельство о рождении покажу, – Юрий Давидович положил салфетки на стол и смотрел, как они пропитывались водой, – она просто без отчима ездит, так, уладили с кадрами, она ж давно снимается. Так что ты… того, поаккуратнее, прости – прости! – Стешко поднял руки вверх, – просто потом скажешь, что же вы, гады, не предупредили. Она такая, странноватая, конечно.
– Убил! – Верховский дернул уголком рта, – нет, ну убил! Я ж всерьез! Жениться готов. Это же просто… юная Хэпбёрн, до чего же красива! Нет, ну, все равно придется – на катере, раз обещал сам себе. Буду ждать, а? Еще четыре года! Да я уж старик буду для нее. Убил, Юр, нет… впрочем, спасибо, что сказал, а то натворил бы делов, не сдержал бы себя – точно. Коньяку принеси, – Верховский ухватил официанта за полу пиджака, – ХОРОШЕГО. Понял?
– А как же, Семён Ильич! сделаем! Сей секунд…
Утром Мона Ли проснулась от ощущения необыкновенного счастья. Вчера кто-то постучал в дверь, и, пока она шла открывать – убежал, оставив огромный букет роз в ведре. Розы пахли так, как пахнет волшебная ночь, напоенная любовью. Мона вышла на балкон босиком, встала на цыпочки, потянулась – хорошо! Хорошо! По привычке поднесла к глазам Ки-Риня – тот был теплый, и светился золотисто-нефритовым, мягким светом. Мона смотрела на море, слушала, как оно разговаривает, набегая на берег, как плещутся волночки у пирса, как ходят чайки, и такая радость была разлита в этом апрельском утре, что хотелось петь и кричать. Мона на цыпочках прошла в комнату, долго умывалась, потом вдруг решила накрасить ресницы, что делала только на съемках, и села на кровати, скрестив ноги. Блеск,
– сказала она сама себе, просто неотразима! В это утро хотелось быть необыкновенной, и она в который раз представила себе лицо – Верховского. Она прекрасно понимала, ПОЧЕМУ он так смотрел на нее, и зачем спрашивал, сколько ей лет. Он влюбился! Влюбился! Вот! А ТОТ, у камина – говорил, что меня никто не будет любить! А меня – любят! И меня любит самый лучший мужчина на свете! Это от него розы, и он сегодня обещал целый день быть со мной. Наверное, в Ялту поедем, – Мона прошлепала к шкафу – что надеть? Чтобы – наповал. Пойду по набережной, и пусть все валятся направо и налево. И Верховский меня под ручку ведет. Вот так. Подумаешь, Архаров… я даже не взгляну на него теперь. Я и не думаю о нем. А мог бы меня поздравить! Ведь знал, что у меня вчера был день рождения, знал. Мона стала перебирать платья, стучать плечиками. В джинсах? Нет. Платье. Белое. Вот это, новое, индийское. Вот, точно! Мона вытащила пакет, открыла – легчайшая материя, с кружевными вставками, – сарафан с тонкими лямками, мини, едва прикрывающий попу, а поверх – кружевной, прозрачный, чуть до колен – жакет. Подхватила густые волосы белой широкой резинкой надо лбом, на запястья – браслеты, тонкие, серебряные, поющие, и греческие сандалии с ремешками. Покрутилась перед зеркалом – умереть – не встать! Даже духами – за ушками, на сгибе локтя, в ямочку – на шее. В номере все было вверх дном, но не заниматься же такой тоской, как уборка – сегодня? Мона услышала какое-то тарахтенье и шум на набережной, выглянула – и ахнула. К берегу шел катерок, ничего необычного, но на палубе выстроились строем матросики, а на носу в белом кителе, стоял Верховский, с гитарой и что-то пел, перекрикивая шум двигателей. Катер встал у пирса, и из динамиков стала слышна песня. Мона ахнула, и пулей вылетела из гостиницы, и все бежала, пересекая Набережную, и вылетела на пирс, и вот уже Верховский спустился по трапу, с огромным букетом белых роз и галантно подал ей руку, – простите, Мона, но все бригантины ушли в море…
Едва Мона ступила на сходни, Верховский сбежал, поднял её на руки. Со стороны выглядело так, будто разжалованный капитан корабля помогает подняться на борт чужой невесте. Все было как-то карикатурно, хотя и катерок был вполне себе новый, но так нелепы были матросики, и эти букетики роз, и музыка из репродуктора… впрочем, Мона Ли не видела ничего, она вся превратилась – в ожидание, будто несло ее – легчайшим бризом, туда – за горизонт, где уж точно все будет хорошо – как в сказке. Верховский распахнул перед ней дверь кают-компании, где был накрыт стол на двоих, с таким необходимым для сказки набором – шоколадные конфеты, апельсины, Шампанское в ведерке. И розы, розы, – всюду розы. Катерок запыхтел и отвалил от пирса, держа курс вдоль берега. Матросы деликатно рассеялись, репродуктор захлебнулся и умолк, стали слышны крики чаек и шум мотора. Верховский с Моной вышли на корму.
– Прохладно? – спросил он. Мона поежилась, Верховский накинул на нее китель. От кителя пахло дорогим одеколоном, табаком и чем-то таким, отчего у Моны застучало сердечко. Так они и стояли, глядя на волны, и берега разворачивали перед ними свою панораму – то скалы, то пляжи, то домики среди зелени, и это было действительно – волшебно. Мона ждала, что будет дальше, опыта свиданий у нее было маловато. Верховский понимал, что нужно что-то сказать, и все оттягивал момент – сказав, ему придется навсегда отказаться от этой дивной девушки, а Верховский был влюблен.
– Мо-на Ли-и, – протянул он, прижал ее к себе, стиснул больно ее плечо и ушел в кают-компанию. Разговор был коротким. – Зачем ты обманула меня, девочка?
– Я? – Мона села рядом с ним, – я? Я ничего. Я ничего такого…
– Почему женщины всегда врут про свой возраст? Ты делаешь себя старше, а потом начнешь врать, что ты моложе? – Верховский мял в пальцах сигарету. – Ты ж меня под монастырь бы подвела, сама понимаешь, я ж мужик, а не пацан, шутишь… Мона Ли заплакала. – Ну, ну, – он пальцем вытер ее слезинку, – я бы солгал тебе сейчас, мол, подожду, пока ты подрастешь, но с тобою нужно быть честным. Ждать не буду. Конечно, я разозлился на тебя, и, по-хорошему, вообще хотел улететь сегодня, а потом подумал – пусть у нас будет праздник, почему нет? Мы выпьем с тобой за счастье, которое может быть, а может – и не быть. Мы выпьем за надежды, которым суждено быть обманутыми, выпьем за любовь, которая, если честно – или ложь, или страдание, и никогда – радость.
– Но вы же любите меня? – Мона плакала беззвучно, – и я. Я. Я вас люблю. Я никого не любила никогда, а вас – люблю. Не бросайте меня, я знаю, вы исчезнете сразу, как мы вернемся обратно в Гурзуф. Я умру от горя!
– Мона, Мона, – Верховский откупорил Шампанское, налил бокал – Моне, себе плеснул коньяку из фляжки, – ничего с тобой не случится. Появится очередной Архаров, – Мона вздрогнула, – смазливый мальчик, задурит твою сказочно прекрасную головку, и ты забудешь про Семена Ильича Верховского, который, кстати! написал про тебя песню, – он достал гитару, кашлянул пару раз, и спел. И Мона поняла – если он уйдет, она действительно умрет.
Катерок встал напротив небольшой бухточки. В дверь кают-компании деликатно постучали.
– Да что там, – Верховский встал, открыл дверь, выглянул – что надо-то? Капитан голос понизил:
– Это, вы же говорили, насчет пристать? Вроде пикник хотели, вот – тут и пляжик, нет?
– Прости, друг, не до того, – Верховский махнул рукой, – сейчас, обожди … – Дверь закрыли. Верховский вернулся, сел, притянул плачущую Мону к себе, – ну, девочка моя, ну что ты? Ну вот – губки распухли, тушь потекла, ну? На кого мы похожи? Иди, умойся.
– Вы со мной говорите, как с маленькой девочкой! – Мона была в отчаянии, – ну я же взрослая, я чувствую, как взрослая, и мне больно! Понимаете, вы? Мне впервые в жизни больно так! Что вы мне все в глаза тычете этим Архаровым? Я-то тут при чем? Все вы знаете, что у меня с ним не было ничего такого и быть не может, все знаете, что он же бабник, и он гад такой, а все мне – вот, Архаровская, мол, идет. Я не жалости прошу, я просто вас полюбила. А вы…
– Мона, ну не рви ты мне сердце-то! – Верховский заорал так, что жилы вздулись на шее, – что я тебе дам? Что? Я женат-переженат, и баб на мне, как блох, и детей – вон, нарожали, я весь повязан по рукам-ногам, я ж пашу, как черт, и пью… как он же. Сама потом все проклянешь, не мучь ты меня! Верховский вышел на палубу, закурил, глядя на уютную бухточку с серебристым песочком, на камни, в кружевах волн, сплюнул в воду, выбросил, не докурив, сигарету, волосы взлохматил, крикнул в рубку, – вертай назад, праздник окончен, и пошел в кубрик, к матросам – и пил, пока катерок не ткнулся носом в гурзуфскую пристань. Вышли – и в разные стороны.
– Девушка, – матросик догнал Мону, держа охапку белых роз, – а цветочки куда? Вам в гостиницу?
– Да бросьте их в море, – Мона вырвала букет и швырнула его в воду, и облетевшие лепестки закачались на волнах среди радужных пятен мазута.
– Ну, друзья мои! – навстречу Верховскому бежал Стешко, – так дела не делают! Так кино не снимают! Вся группа вас ждет, Семён Ильич, сказали, вы натуру поехали смотреть, так уже времени? Давайте, вон, автобусы ждут. – Прости, Юр, – Верховский был мрачен, но вполне владел собой, – давай, конечно, только Игорьку скажи – пусть вещи из номера возьмет. Я со съемок – сразу, в Севастополь, там вояки обещали самолет в Москву. Давай, я быстро.
На Набережной стояли «Интуристовские» автобусы, съемочная группа сидела и на парапете, и на скамейках – пили теплое пиво из трехлитровых банок, кто-то требовал барабульку, оператор дулся в «дурака» с осветителями, артисты, заслуженные и два народных – картинно позировали среди цветущих кустов. Отдыхающие поочередно вставали между актерами, делая идиотски счастливые лица – один щелкал, потом – менялись.
– По коням, друзья, по коням! – Стешко перевернул козырьком назад жокейскую кепочку, и все засуетились, забегали, пересчитывая кофры с костюмами, аппаратурой и реквизитом, и, наконец, отправились – через Евпаторию, на Тарханкут. Мона, с тушью, растекшейся по лицу, в потерявшем свежесть индийском костюмчике, сидела у окна и кусала губы. По привычке она сжала Ки-Риня в кулаке – как он? Единорог был прохладный. Мона посмотрела на него – он не светился изнутри, вообще – был как неживой, игрушка на кожаном шнурке.