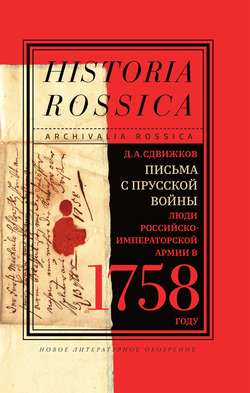Читать книгу Письма с Прусской войны - Денис Сдвижков - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Введение[1]
ОглавлениеЗаписки, мемуары – все-таки не что иное, как обдуманное воссоздание жизни. Письма – это самая жизнь, которую захватываешь по горячим следам ее. Как семейный и домашний быт древнего мира, внезапно остывший в лаве, отыскивается целиком под развалинами Помпеи, так и здесь жизнь нетронутая и нетленная ‹…› еще теплится в остывших чернилах[2].
История этой публикации началась, как нередко начинаются подобные истории, – со случайной архивной находки. Несколько лет назад в фондах учреждения с романтичным названием «Тайный государственный архив Прусского культурного наследия» в Берлине мне попались папки листков с конвертами, исписанных русской скорописью середины XVIII века. Жизнь с тех пор не стояла на месте. Прошел 250-летний юбилей главного события, о котором пойдет речь, – войны, называвшейся современниками Прусской, а потомками Семилетней (1756–1763), и 300-летие ее главного героя, прусского короля Фридриха II. Оба юбилея оставили после себя богатые плоды исследований. Но не у нас. В России эта война по-прежнему остается в числе «незнаменитых». Временные всплески интереса к ней в прошлом были, как правило, индикатором наших предстоящих или уже разразившихся конфликтов с потомками «Федора Федоровича» (как именовали Фридриха II участники Семилетней войны)[3]. Угас даже наметившийся было государственный интерес к созданию нарратива о первом включении Восточной Пруссии alias Калининградской области в состав остальной России в 1758–1762 годах[4].
Лакуна закономерна, ибо затяжная война с непонятными целями не была популярной у современников и наносила, по их разумению, «великий государственный вред»[5]. В итоге, по общему мнению, выраженному в мемуарах А. Т. Болотова, «народа погублено великое множество ‹…› без малейшей пользы для любезного отечества нашего»[6]. Лакуна понятна, но вряд ли извинительна.
Люди Российско-императорской армии эпохи Семилетней войны остаются неразличимой массой «московитов», о которых судят в основном по сторонним свидетельствам союзников или противников. На сцене барочного theatrum belli один из актеров, игравший далеко не последнюю роль, оказывается за сценой, а пушки и ружья противника палят в никуда. Втуне лежит огромный материал «культуры» войны, ибо всякий большой конфликт так или иначе задействует как непосредственных участников, так и наблюдателей, заставляя реагировать, высказываться и фиксировать свою реакцию на разных уровнях, будь то официальные документы, проповеди, оды, личные свидетельства разного рода, солдатские песни и т. п.
С другой стороны, есть и преимущества. Провисшая в коллективной памяти и погребенная в остывшей лаве архивных актов война не разошлась на строительный материал для позднейшего национализма. Не задействованная в государственном заказе, эта материя составляет предмет увлечений редких бескорыстных энтузиастов профессионального цеха и «сетевой общественности»[7]. C большими войнами такое случается совсем не часто. По контрасту это иллюстрирует для Семилетней войны пример Германии, когда при жизни Фридриха II право на существование имела лишь одна – его собственная – трактовка событий[8]. Или наш отечественный отполированный до бронзового блеска 1812 год. Тем более можно надеяться, что письма с Прусской войны смогут, как сулит приведенный в начале эпиграф Петра Андреевича Вяземского, послужить к раскрытию застывшего быта и теплящейся жизни.
2
Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. VII. СПб. 1882, 135.
3
Коробков 1940, Коробков 1948, Семека 1951, Румянцев 1953.
4
Кретинин 1996.
5
Андреев 1870, 78. Ср. свидетельство иного круга десятилетие спустя: «Прусская война сколько тысячей братий наших пожерла! Сколько вдов и сирот плачущих оставила, общую казну истощила!» (Тихон (Задонский) – Т. В. Кишкину, 20.06./01.07.1769 // Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Т. I, кн. 3. СПб. б. г., 306). Здесь и далее даты по новому и старому стилю, в неоговоренных случаях датировка по новому стилю. Внутри текста в русских письмах и других источниках оставлена оригинальная датировка. Разница в XVIII веке составляла 11 дней.
6
Болотов II, 95. Потери всех воюющих сторон по самым приблизительным подсчетам составили 500–550 тысяч (Kunisch J. Friedrich der Große. Der König und seine Zeit. München 2004, 155, 465; Урланис Б. Ц. История военных потерь. СПб. 1994, 337 – из них Россия 120 000).
7
Анисимов 2014, Доля; Оточкин 2016 и др.
8
Heuser 2011; Raschke 1993. О Семилетней войне как отправной точке «классического» немецкого национализма см.: Blitz 2000, Burgdorf 2001.