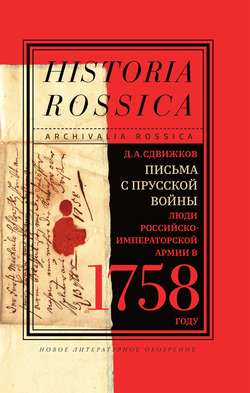Читать книгу Письма с Прусской войны - Денис Сдвижков - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Введение[1]
«Безпримерное происшествие»
Форшпиль
ОглавлениеНепосредственная цепь событий, приведшая две армии в Цорндорф, начинается с разгромом австрийцами прусского обоза в конце июня 1758 г. под Ольмюцем (Оломоуц) в Моравии. Еще непосредственно перед тем гр. Дона, командующий Померанским корпусом против шведов и русских, был извещен, что ему не следует ждать никакой помощи от короля[171]. Однако теперь пруссаки вынуждены снять осаду австрийской крепости и отступить через горы обратно на север в Силезию. Наступает момент затишья, и Фридрих II решает наконец самолично «похристосываться с русскими»[172].
Между тем казаки с калмыками, держась за хвост своих лошадей, уже переплывают за Одер и показываются на его западном берегу[173]. Прусскую столицу в страхе перед нашествием московитов начинают покидать знатные семьи, магазины и казну грузят на барки. В королевском замке в Берлине пакуют подводы в ожидании эвакуации в Магдебург[174].
13 августа русская армия вплотную подходит к Кюстрину, защищавшему подступы к столице и движение по Одеру. Пообедав в окрестностях, генералитет с Фермором и волонтерами скачет на рекогносцировку (см. № 56). Рано утром 15 августа начинаются перестрелки вокруг крепости. Русским с ходу удается отогнать прикрытие и занять форштадты, однако ворваться в саму крепость с ходу они не смогли и без подготовки начинают с лежащих через болота возвышенностей ее обстрел.
Один из первых же выстрелов попадает в громадный армейский сенной сарай, и через пару часов уже полыхает весь старый город внутри стен, тесно застроенный деревянными фахверковыми строениями. «Приготовления [в крепости] были сделаны из рук вон плохо: картузы и ядра не подходили к пушкам. Артиллеристов не было, их прислали из армии лишь в ночь, когда неприятель начал бомбардировку»[175].
Возведенная в XVI–XVII вв. на острове при слиянии Одера и Варты, крепость считалась одной из наиболее мощных в Пруссии и в немецких землях вообще[176]. Здесь когда-то останавливался на пути из Кенигсберга в Голландию Петр I. Здесь юным кронпринцем Фридрих II присутствовал при казни своего друга фон Катте, а затем почти два года провел в крепости сам, осужденный своим отцом за попытку бегства из-под его власти. Прусский король, как и все остальные, уверен, что «Küstrin n’a rien à craindre; dès que l’on rompt les ponts, aucune bombe n’y peut atteindre»[177]. Так что случившаяся катастрофа означает и его личный просчет. В Петербурге сожжение крепости празднуют как крупную победу. «Ундер офицерам и рядовым армейской артилерийской и инженерной команд» жалуют первым по два, а последним по одному рублю. Офицер же орудийного расчета, выпустившего «счастливый» снаряд, получает годовое жалованье «не в зачет»[178].
В Кюстринском пожаре гибнут сотни тысяч шефелей муки и прочего провианта в армейских магазинах, местные и привезенные из Кенигсберга архивы, а также спрятанные под защиту крепостных стен ценности местных элит. Гарнизонные солдаты и содержавшиеся здесь пленные под видом борьбы с пожаром ломают крыши и двери, а затем преспокойно продают награбленное. Жар настолько силен, что в арсенале плавятся пушки и выгорают деревянные быки моста, находившиеся в воде[179].
Русские «чрез тот пожар имели некоторую надежду» на сдачу крепости[180]. Однако в отсутствие осадных орудий и при недостатке боеприпасов (неприятельские ядра велено покупать по 3 копейки за штуку) огневой мощи хватило только на устроенный фейерверк, но причинить существенного вреда собственно оборонительным сооружениям крепости русская артиллерия не могла[181]. Как свидетельствует парламентер, поручик Карл Отто фон Штакельберг (см. № 97), 17 августа 1758 г. после пожара крепости
Я был послан с трубачом потребовать сдачи города, после того как посылали двух других офицеров, и они вернулись с известием, что не могли попасть внутрь. Меня благополучно впустили, и я выполнил свое поручение. Меня очень учтиво приняли комендант (полковник фон Шак (Шак фон Вутенов). – Д. С.) и все находившиеся там старшие и младшие офицеры, среди них генерал Платен-младший[182], затем я благополучно вернулся назад – с ответом отрицательным[183].
Наступает момент неопределенности: в российской армии взвешиваются возможности организации правильной осады или движения главных сил к Берлину. Австриец Сент-Андре подает 22 августа Фермору «промеморию», в которой пишет, что осаждать Кюстрин без осадных орудий бессмысленно, надо идти на север и соединиться со шведами. Впоследствии все, кому не лень, обвиняют Фермора в том, что тот не перешел вовремя Одер. Но и его преемники не желали лезть в осиное гнездо, рассуждая, что «по ту сторону Одера баталию давать опасно: в случае несчастия никакой верной ретреты (retraite – отступления. – Д. С.) нет»[184]. В чем, однако, австриец был прав, так это в недопустимой раздробленности русских сил, что вскоре и подтвердилось: «Die ganze Armée mit Einbegrif des Observations Corps wäre meiner Meinung jederzeiten so zu stellen, daß selbe in einem forçirten Marsch sich conjungieren und einander secundiren könnte[185]».
Пока суд да дело, русские занимались в округе заготовкой сухарей и фуражированием, а принц Карл Саксонский, состоявший при армии Фермора, забавлялся стрельбой из арбалета по голубям и поросятам (№ 115–116). Тем временем, получая все более грозные депеши с Одера, Фридрих II оставляет австрийцев на попечение своего младшего брата Генриха и стремительным двухнедельным маршем перебрасывает часть своих войск навстречу русским. Прусские войска проделывают в день (и/или ночь) в среднем по 25 км по дрянным дорогам – достижение выдающееся даже для последующих времен. Жара стоит такая, что конница вынуждена передвигаться только по ночам[186].
Срединная Пруссия столкнулась с непредвиденной войной на несколько фронтов, которая не позволяла прибегнуть к более безопасной и выигрышной для армий Старого режима оборонительной стратегии[187]. В первый, но не последний раз она пытается решить задачу методом блицкрига и выведения одного из противников – слабейшего, по тогдашнему мнению Фридриха – из борьбы. Конечная цель: «атаковать российскую армию и поразить ее настолько, чтобы нам не было более чего бояться с этой стороны»[188].
Вновь прибывшие с Фридрихом войска («силезские батальоны») соединяются 11 (22) августа 1758 г. в окрестностях Кюстрина с 18-тысячным померанским корпусом графа фон Дона. В сумме прусская армия располагает от 35 000 до 40 000 человек и порядка 200 орудий.
По мере приближения решительных событий нарастает концентрация «устной» истории – легенд Фридерицианы. В анналы попадает все больше поступков и фраз главного актера драмы, чаще придуманных или искаженных до неузнаваемости, но все-таки составляющих пласт нарратива, который нас занимает. Так, на смотре корпуса Дона король якобы язвительно роняет по адресу померанцев, в составе которых полки, разбитые русскими год назад в Восточной Пруссии: «С иголочки (propre Leute)… Мои-то вон грязные черти (Grasteufel) – зато кусаются».
Здесь Фридрих впервые видит русских в лице захваченных его гусарами казаков, и пока это идеально отвечает его представлениям о неприятеле: «Смотрите, с каким сбродом мне тут приходится сражаться!» С варварами не церемонятся: «Одному [казаку] генерал выбил два зуба, другого еще один генерал избил за то, что тот не отдавал свой нательный крест»[189]. Пленные калмыки служат в качестве сувениров: уже после Цорндорфа Фридрих послал пару таковых, к примеру, в подарок принцу Фердинанду Брауншвейгскому[190].
Что с другой стороны сцены? Фермор уверен, что прусский король будет переправляться через Одер по существующим мостам – в Кюстрине, под защитой крепости, или ниже по течению в Шведте. Туда командующий российской армией отрядил отдельную дивизию под командованием П. А. Румянцева в 11 000 человек, одновременно и для поддержки коммуникации со шведами, которые действовали (вернее, бездействовали[191]) севернее. Для рекогносцировки и патрулирования территории между главной армией и Румянцевым на Одер отправлен отряд полковника Николая Хомутова. Разведывательные данные РИА получает помимо «фронтовой разведки» от сети конфидентов, в основном поляков на прилегающих к Пруссии и собственно прусских территориях, связанных с дружественными Петербургу магнатами, а также католического духовенства, которое не жалует Фридриха. Во главе русской резидентуры стоял настоятель аббатства на померанской границе Иосиф Лок, имевший свою сеть осведомителей[192]. В Заграничной армии его деятельность, вознаграждаемая, помимо золота, русскими соболями и даже церковными синекурами, курировали глава походной канцелярии по секретной части П. П. Веселицкий, затем С. В. Акчурин (№ 62, 84) и армейский обер-аудитор А. П. Устьянцов (№ 56)[193].
За два года, проведенных здесь насильно по воле отца, Фридрих II прекрасно изучил Кюстрин и его окрестности[194]. Отлично знает местность и командующий прусской кавалерией Зейдлиц: он вырос в Шведте пажом при дворе местного «бешеного маркграфа» Фридриха Вильгельма (будущий прадедушка наших Александра I и Николая I), объезжая молодых лошадей и скача через крутящиеся мельничные крылья.
Пруссаки заблаговременно готовят средства для форсирования Одера: в камышах спрятаны собранные в окрестностях челноки, флигель-адъютант Шуленбург переправляет из Берлина материалы для моста по Фридрихсканалу, соединявшему с XVII в. Одер и Шпрее[195]. Выбор переправы существенно облегчается тем, что Одер в это время резко обмелел (т. н. Versommerung)[196]. Прусский король посылает 22 августа отряд с артиллерией в район Шаумбурга под Кюстрином (совр. Шумилово), который обстреливал противоположный берег, занятый русским отрядом, и своей активностью создавал видимость подготовки к переправе[197]. Главная армия пруссаков разбивает тем временем лагерь возле Кюстрина. И хотя за этим прусским лагерем, как уверяет Фермор, «вседневно с высоких мест примечание было!»[198], а активность пруссаков вниз по Одеру русские разъезды заметили, однако ночью движение главной армии явно проморгали[199].
По пробитии вечерней зори Фридрих неожиданно, в том числе для своих подчиненных, выступает в поход. Только что повалившихся на землю солдат будят пинками и строят в походные колонны. К 5 утра 23 августа ниже по течению в Гюстебизе, где Одер становится ýже, «король Пруской по известному смелому проворству своему» совершенно незамеченным[200] переправляется на восточный берег. Сначала на челнах, а потом по быстро наведенному мосту из медных понтонов, оставив на западном берегу тяжелый обоз. «Мой девиз – победить или умереть. Кто думает иначе, тому не стóит идти за Одер – пусть убирается ко всем чертям[201]». И вот уже с той стороны «на пещаных горах по Одеру пехота как муравьи вверх лезут, коих король купно с авангардиею на судах перевести велел, дабы сперва на вышних той стороны реки посты занять; а как мост поспел, то и армея перебралась оставляя багаж назади» (№ 113).
По тем же «пещаным горам» муравьями в обратном направлении к Берлину скатывался русский авангард в 1813 г., а потом в 1945 г. солдаты 1-го Белорусского фронта в боях за Кюстринский плацдарм. Паром ходит тут и сейчас. Так что место с точки зрения переправы, можно сказать, намоленное. Еще в июле 1758 г. на военном совете РИА было постановлено занять не только «чрез реку Одеру мосты», но и «где берега к переходу способны»[202], каковых на заболоченном Одере совсем немного. И тем не менее утром 23 августа решительно никаких русских разъездов (éclaireurs) тут нет[203]. Единственные, кто встречает Фридриха на восточном берегу, – это его приятно удивленные подданные.
Опять рука с задней парты устной истории: Можно дальше? – Да, пожалуйста. Подданные окружают своего доброго короля, и рождается еще один сюжет Фридерицианы. «Дети мои, – говорит король, – я не мог прийти раньше, чтобы не приключилось этого несчастья. Но потерпите, уж мы им зададим». Появляется женщина, спрашивает, как там служит ее муж, унтер-офицер Биндар (Мюллер, Шмидт). «Ну как же, знаю старину Франца (Армина, Вольфганга) – здоров себе, здоров, матушка». Благодарныя слезы орошают пески одерския, зане отец отечества оное спасе. Сцену заволакивают клубы пыли, поднятой армией. Король исчезает, чтобы появиться впоследствии на чувствительных гравюрах и литографиях.
Спасибо, садитесь. Возвращаемся обратно к событийной канве. После переправы прусские гусары перерезают коммуникацию между главной армией и дивизией Румянцева на севере. Посланный от Фермора курьер уже не смог к нему пробиться. Действие перемещается на время на дополнительную сцену, и начинается мутная история с графом Петром Александровичем. С одной стороны, он уже тогда слывет не только знающим, но и решительным генералом. С другой – Екатерина II в самом зените славы фельдмаршала не сдержалась от замечания, что Румянцев слышал-де цорндорфскую канонаду, но предпочел не вмешиваться, хотя его появление в тылу пруссаков могло бы решить дело в пользу русских[204].
Позднее Румянцев строил свою защиту на утверждении, что узнал о происходящем с главной армией лишь в самый день баталии[205]. В реальности о переправе Фридриха ему стало известно от разведчиков полковника Хомутова, которые были отрезаны пруссаками от основных сил и вынуждены скакать к дивизии Румянцева. До самого Петра Александровича рапорт об этом дошел якобы только в полночь 14 (25) августа, то есть накануне битвы. Тогда как к главной армии, отстоящей ровно на том же расстоянии от места переправы пруссаков, те же известия поступили на два дня раньше. Вопрос не для школьников: с какой скоростью должен скакать русский разъезд, чтобы преодолеть 30 км за два дня? Так или иначе, посоветовавшись с состоявшим при нем генерал-квартирмейстером Штофельном[206], Румянцев решил оставаться в своей главной квартире в местечке Хоэнкрениг (Hohenkränig) на правобережье Одера, в 50 км от Цорндорфа, и удерживать занимаемый пост в Шведте[207].
Со второй половины дня 14 (25) августа сюда стали поступать известия с места Цорндорфской баталии от бежавших иностранных волонтеров и русских. Они убеждали в полном разгроме главной армии. Возникает ощущение, что Петр Александрыч, выжидая, чем кончится дело у Фермора, держал мост через Одер скорее для себя. В случае чего у него оставалось пространство для маневров – либо соединиться со шведами на севере, либо идти на восток к тыловому корпусу Резанова[208].
Примыкающая к этим событиям переписка между Фермором и Румянцевым подчеркнуто корректна. «Его рейсграфское сиятельство» ни единым словом Румянцева не обвинил. С другой стороны, непростые отношения между ними не были тайной[209]. При последующем разбирательстве Румянцев опасался «предосуждений» от «командующего генерала»[210], и не зря. Пусть и не из первых рук, появились прямые свидетельства об экивоках Румянцева. Бригадир Михаил Стоянов в показаниях осени 1758 г. передавал слова казацкого полковника Дячкина из отряда Румянцева: «Мы де слышали, как у вас (в главной армии. – Д. С.) не только ис пушек, но из мелкого ружья стрельбу, и мы де просились у Румянцева, только он нас не пустил». И даже якобы приказал следовать «еще далее от армии»[211].
Личный проповедник Фермора Христиан Теге, по его словам, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость весной 1759 г. после того, как Фермор «жаловался в Петербурге на одного знатного русского генерала, что он не подал ему условленной помощи». После чего-де «знатный генерал», мать которого имела влияние при дворе, обвинил Фермора, а заодно и Теге в измене[212]. Предположение вполне достоверное. И вряд ли случайно, что с началом следующей кампании Фермор, тогда еще главнокомандующий, оставил этого «знатного русского генерала» прозябать в тылу[213].
Как бы то ни было, при многократном превосходстве сил будущий герой Ларги и Кагула не смог или не захотел захватить в самый день баталии хотя бы наведенную пруссаками переправу через Одер. Против посланной Румянцевым уже под вечер, в пятом часу пополудни, якобы «сильной партии» бригадира Берга[214] ее защищал один вспомогательный вольный полк под командованием шведа Хордта (Гордта), состоявший из всякого сброда: бывших осужденных, австрийских и шведских пленных, только что прибывших рекрутов. Гордт писал в своих мемуарах, что во время этого боя «мы слышали каждый пушечный залп» близкой баталии, чем-де и воспользовался, чтобы успешно сымитировать подошедшее от короля подкрепление[215]. В результате посланный Румянцевым отряд отступил, пруссаки сохранили переправу и, главное, обеспечили перевозку тяжелого обоза с амуницией, без которого они были бы после баталии в отчаянном положении.
Только 27 сентября, когда все было уже решено, Румянцев получил наконец от Фермора приказ соединиться с ним[216] и (довольно неспешно) ему последовал. Насколько нервной между тем была обстановка в третьей дивизии Румянцева, видно по следующему: после оставления ее главной квартиры пруссаки обнаружили бумаги и письма, в числе которых, на минуту, – секретные донесения польского конфидента, письмо «главе» русской резидентуры аббату Иосифу Локу, сведения о поставке провианта Заграничной армии польским магнатом Сулковским и фрагменты полковых журналов с паролями и лозунгами – брошенными в местной корчме! Счастье, что разодранные листки не попали к переводчикам и остались лежать в архиве мертвым грузом[217].
Пассивность демонстрировали и союзники: ни австрийский корпус под командованием бывшего лифляндца Эрнста Гидеона Лаудона, ни шведы, остановившиеся в 100 км от Одера, не предпринимали активных действий, предпочитая выжидать исхода столкновения[218].
В самой армии Фермора днем 23 августа появляется перебежчик-австриец – гусарский лейтенант фон Гайслер, лихой малый, переодевшийся прусским желтым гусаром полка Малаховского и незаметно присоединившийся к армии Фридриха на марше[219]. Затем с прусскими разъездами гусар Малаховского сталкиваются и казаки, уверяясь, что имеют дело не с разрозненными всадниками, а с авангардом следующей за ними прусской армии (№ 112). К исходу дня 23 августа Фермор доподлинно извещается о том, что Фридрих со всей армией движется на него с севера. На рассвете следующего дня русские спешно покидают свой основной лагерь в лесах под Кюстрином (выбираются «из этой дыры», фыркает в своей реляции представитель австрийцев Сент-Андре)[220] и маршируют «на чистые места». В отсутствие трети армии Фермор несомненно желал бы от баталии уклониться, как и рекомендовала петербургская Конференция в таких случаях, но его визави «никакова способу» к этому не оставляет[221].
Первоначально предполагалось, что российская армия примет бой в районе Каммина. Здесь был оборудованный укрепленный лагерь, за которым находилась цепь возвышенностей, окруженных флешами и редутами со рвами[222]. Утром 24-го туда прискакали волонтеры и принц Карл со своей свитой, ожидая Фермора со всей армией. Однако тогда же, рано утром 24 августа, прямо на марше российский главнокомандующий меняет свое решение. Иностранцы в бешенстве, возникает перепалка на повышенных тонах, переданная в отчете Сент-Андре в Вену[223]. «Временами можно и соврать, – огрызается Фермор в ответ на их обвинения. – Благодарю Бога, что я не полез в эту западню!»
Что именно происходило в голове Вилима Вилимовича, до конца остается неясным. По единодушному мнению, в том числе и непредвзятых наблюдателей, укрепленная позиция у Каммина была более приспособлена для отражения атаки пруссаков[224]. Фермор в ответ на опросные пункты последующего расследования Конференции туманно пишет: «Для баталии местоположение при Каммине, по собственному моему осмотру, как к Кистрину следовали, неудобно, что одна гора другую пушечною пальбою командует». Другие объяснения более правдоподобны: во-первых, армия, пройдя 6 миль от Кюстрина, «от жаров утомилась», и Фермор предпочел остаться ближе к воде и лесу, не доходя до открытой равнины вокруг деревни Цорндорф. Остановившись там временно до подхода Обсервационного корпуса и дивизии Румянцева, тем более что неприятеля пока не было видно. А во-вторых, «дабы не подать солдатству повод, что не видя еще неприятеля, тем же путем, которым пришли, ретируемся»[225]. Конференция, заседая за своим малинового бархату с позументом столом в полутора тысячах километров от места баталии, похоже, не стала настаивать и сочла позицию при Цорндорфе выбранной «в принужденном состоянии»[226].
В конечном итоге Фермор посылает в район Каммина большой обоз под начальством генерала Леонтия Михайловича Карабанова под прикрытием сборной команды от 4 000 до 6 000 человек гренадеров с 6 орудиями. Остальная же армия 24 августа после марша останавливается на равнине, пересеченной несколькими лощинами, с небольшим леском посередине и песчаными возвышениями, между хутором (амтом) Квартшен (Quartschen) с двумя большими овчарнями и старинной капеллой тамплиеров, деревнями Цихер (Zicher) и Цорндорф (Zorndorf). Через Цорндорф проходила дорога из Кюстрина к Ландсбергу, часть бывшей Via Regia, позднее «Рейхсштрассе № 1» соединявшая воедино Германию от Ахена до Эйдткунена через Берлин. Так что армии всех войн, двигавшиеся между востоком и западом, рано или поздно проходили тут.
От приближающегося с севера неприятеля российскую армию отделял ручей (заболоченный правый приток Одера) Митцель (Mietzel) – «небольшой, но очень глубокий»[227]. После полудня к армии присоединяется измученный маршами Обсервационный корпус[228]. Здесь солдатам дают краткий отдых, а затем, уже вечером, в количестве, по разным данным, от 45 000 до 60 000 человек[229] армия стала в ордер баталии.
Что она собой на этот момент представляет?
Цорндорфское сражение продемонстрировало уязвимость непропорционального развития родов войск в России. Пехота РИА превосходит пруссаков по общей численности, не уступая в боевых качествах. Наблюдатели отмечают: русская «пехота, особенно гренадеры, состоит из людей рослых и выносливых, привыкших к слепому послушанию»[230]. Однако русские сильно уступали в количестве и качестве кавалерии, особенно тяжелой[231]. Свидетельства единодушны в низкой оценке русских лошадей, малорослых и слабосильных[232], – что особенно сказывалось на тяжелой коннице. Невысоко оценивались и боевые качества кавалеристов, прежде всего по недостатку «регулярства» и боевого опыта. «Die Gußaren und Cosaken aber seynd eine Pestilenz bey der Armée»[233]. Российские гусары времен Прусской войны, среди которых «было очень много венгерцев и прочих иностранцев»[234], описываются так:
Афицеры тоже от фрунта и от мест своих отлучаютца, ездят по сторонам с сабакамы, кричат и тровут (травят. – Д. С.) зайцов и то нет ничего (ничего им не бывает. – Д. С.). Гусар ежелы во фрунте пыян и валяетца с лошади илы разстрепан и неопрятен то также невзискуетца, и чем был гусар грубее в речах и всегда на пияную руку отвечал, тем болше почиталсе храбрее[235].
В начале весны 1758 г. австрийцы даже направили для усиления армии Фермора «саксонско-польский кавалерийский корпус», однако из‐за внезапного для цесарцев выступления Фридриха II их повернули с полпути из Кракова[236].
О плюсах и минусах иррегулярной конницы в РИА в изобилии писали и враги, и союзники русских. Очевидный негативный эффект, который грабежи и бесчинства казаков с калмыками имели для положения армии в завоеванных землях и в пропагандистской войне, уравновешивался тем, что благодаря им движения русских были практически непроницаемы для неприятеля. «Совершенно невозможно было, – пишет, к примеру, в своем дневнике в июле 1758 г. гр. фон Дона, – найти кого-либо (в прусской армии. – Д. С.), кто мог вести разведку, добраться до неприятельского лагеря и составить полное представление о его настоящей позиции. Из-за множества иррегулярных войск до него (русского лагеря. – Д. С.) не смогли бы добраться и малые патрули». Имевшиеся в прусской армии гусары и немногочисленные босняки с подобными задачами не справлялись, и «синим» приходилось двигать крупные массы войск, производя своего рода разведку боем[237].
Артиллерийско-инженерный корпус составлял элиту РИА. Артиллерию лелеет всесильный П. И. Шувалов («российска грудь, твои орудия, Шувалов» – М. В. Ломоносов), который не жалеет средств на ее модернизацию. Это должна быть своего рода тогдашняя «кузькина мать» империи, обеспечивающая «безопасность границ и приобретенную над соседями инфлюэнцию»[238]. «Как артиллерия главное оружие есть, – прямо писал П. И. Шувалов, – то не могут быть ограничены ни труд, ни попечение, прилагаемые для его благосостояния»[239].
Артиллерия модна и у тогдашних военных стратегов в Европе, силой вещей привлекая наиболее образованных офицеров. Между прочим, к теоретическим расчетам баллистики приложил руку и уже знакомый нам Леонард Эйлер. Его сын Христофор «Леонтьевич» служил в Семилетнюю войну в прусской артиллерии, а затем при Екатерине II начальником Сестрорецкого завода изготовлял лафеты для русских орудий[240]. Опираясь на выросшее после Петра I поколение образованных профессиональных артиллеристов – таких, как Корнилий Богданович Бороздин, Матвей Григорьевич Мартынов, Михаил Васильевич Данилов[241], Каллистрат Львович Мусин-Пушкин, погибший при Цорндорфе, и др., – в первой половине 1750‐х гг. П. И. Шувалов обновляет организационную и материальную часть артиллерии, реформирует артиллерийскую школу в Петербурге, вводит новые типы орудий.
Не все из «новоинвентованного» прижилось. «Секретные» или «шуваловские» гаубицы с дулами особой овальной формы для поражения картечью пехоты, а также «близнята» – дву- или многоствольные легкие орудия на одном лафете – не смогли себя зарекомендовать в ходе войны. Зато введенные тогда же «единороги», универсальное орудие, соединившее преимущества пушки и гаубицы, скобы на котором делались в форме единорогов из фамильного герба Шуваловых, надолго остались на вооружении РИА[242].
Новые гаубицы составили секретный Бомбардирский корпус под командованием упомянутого К. Л. Мусина-Пушкина. Расчеты этих орудий приносили особую присягу, а их статус был выше общеармейского: что-то вроде ракетных батарей «катюш» в Великую Отечественную. Именно они, надо думать, были прежде всего среди канониров, предпочитавших при Цорндорфе умирать вместе с орудиями[243]. Артиллерией Фермор полагал компенсировать слабые стороны российской армии в столкновении с Фридрихом, тем более, что она хорошо показала себя в предыдущем сражении при Гросс-Егерсдорфе.
Однако сказывается диспропорция в боевом опыте: к началу войны даже среди старших офицеров-артиллеристов РИА более половины, а среди младших и все 90 % были необстрелянными[244]. Русские расчеты считаются менее поворотливыми и меткими, чем пруссаки; да и обученной обслуги элементарно не хватает[245]. У артиллерии РИА также проблемы с конной тягой, часто не хватает лошадей и ездовых. После Цорндорфской баталии из‐за большого падежа оставшиеся орудия частично транспортировали вручную[246].
Старые полки русской армии стали в несколько линий. По большинству свидетельств, в том числе по официальному плану, в две, хотя некоторые источники говорят о трех. Очевидно, подразумеваются резервы, поставленные между первой и второй линиями[247]. Пространство между первой и второй линиями составляло, если верить шведу Армфельту (№ 112), 2400 шагов, то есть порядка 1,8–2 км. Несколько полков были поставлены справа и слева на «боковых фасах», между двумя линиями перпендикулярно к ним, что придавало построению вид каре.
Кавалерия также располагалась на флангах, а часть ее и между линиями. Походный обоз с амуницией, экипажами офицеров и полевой кассой расположился в овраге Гальгенгрунд, «лощине висельников». В названии нет никакой мистики: рядом располагался холм, который служил местом казни еще накануне войны. Русские, сами того не подозревая, располагаются в зловещем месте прямо на костях, к которым вскоре добавятся новые[248].
Первоначально крайними во фрунте по обыкновению поставили самые надежные полки. Однако позднее прибытие Обсервационного корпуса все спутало. «Шуваловцы» встали под углом к линиям Главной армии, и в результате это крыло заняли хорошо экипированные, но уставшие с марша, необстрелянные и неслаженные полки[249].
История баталии – история пространства и история в пространстве. Ее логика в значительной степени диктовалась данными местности, однако ландшафт, эта вроде бы золотая рыбка объективности, обманывает ожидания. И здесь применимы слова Томаса Карлейля о Кунерсдорфе: «Давешней арены событий более не существует; описания в старых книгах безнадежно неузнаваемы»[250]. Уже к середине XIX в. Теодор Фонтане писал в своих «Странствованиях по марке Бранденбург», что лощины Цабернгрунд и Гальгенгрунд на Цорндорфском поле, которые сыграли важную роль в драматургии баталии, сглажены и осушены. К началу XX в. немецкий Генштаб отмечал, что рельеф был ранее намного более «угловатый» (kantiger), а небольшой лесок Штейнбуш, также важный для понимания логики событий, сведен вовсе[251]. Тем более это относится к ландшафту теперешней польской сельской глубинки после многолетней машинной обработки земель и ирригационных работ. Археологические исследования поля битвы подтверждают, как бережно его подчищали от всего, что представляло малейшую ценность, и насколько сильно сказалась на нем впоследствии сельскохозяйственная деятельность и «черная» археология[252].
При исторически существовавшем на середину XVIII в. ландшафте из‐за пересеченного рельефа местности тут не могло быть правильного построения: две неровные линии и массы войск на боковых фасах создавали «своего рода вытянутый четырехугольник с ломаными линиями, вероятно, единственный в своем роде», как пишет более или менее беспристрастный очевидец[253]. Другое правдоподобное описание: «две вытянутые линии и две боковые, наподобие прямоугольника»[254]. Сам Фермор описывал построение в линии, следующие рельефу с низменностями посередине: «Армия в ордер-де-баталии поставлена углом к завороту по положению места и облежащей высоты, ибо на расстоянии двух верст, аще в прямую линию поставить то многие б полки в лощинах свое место получить ‹…› могли»[255].
Это построение русской армии традиционно трактовалось пруссаками как свидетельство отсталости и наследие русско-турецких войн. Что, в свою очередь, обусловило ревнивое внимание к вопросу русских историков. Очевидно, что вопрос того не стóит. Зависимость тактики от внешних условий и противника в РИА, воевавшей на разных границах обширной империи, несомненна – в том числе исходя из опыта последней перед Семилетней большой войны, Русско-шведской 1741–1743 гг.[256] В армии никто не сомневался, что «нынешняя (Прусская. – Д. С.) кампания не мало с турецкими быть сравниваема не может»[257]. «Карей» (каре) или его подобие, там, где он все же применялся против пруссаков, свидетельствовал, как правило, либо об угрозе кавалерийской атаки, и/или о недостатках ориентирования на местности и организации военной разведки при невозможности определить, откуда ждать неприятеля. Именно так складывалась ситуация при Цорндорфе: заболоченная и лесистая местность существенно уменьшала возможности конной разведки, а легкой пехоты (егерей) у русских пока не было. Выбор à la каре позиции с защищенным тылом и флангами, подобной Цорндорфу, означал, что из возможных зол – неожиданности нападения неприятеля, высоких потерь из‐за плотности боевых порядков или невозможности отступления – приоритетным считали первое[258].
Между тем Фридрих, переправившись на восточный берег Одера, свободно мог напасть на русский вагенбург с тяжелым обозом у Каммина, после чего отступление русских стало бы неизбежным из‐за недостатка снабжения. Ведь именно из‐за перехвата австрийцами своего обоза сам Фридрих только что был вынужден снять осаду Ольмюца. Однако он настроен на уничтожение живой силы противника и «окончательное решение» вопроса с российской армией, по крайней мере в эту кампанию[259]. Зная о невозможности атаки на выбранных Фермором позициях, Фридрих совершает под прикрытием леса еще один блестящий маневр и вместо фронта РИА, как рассчитывал российский командующий, собирается зайти ей в тыл.
После небольшой перестрелки между казаками и гусарами ночью с 24-го на 25‐е пруссаки располагаются по обоим берегам Митцеля (здесь русские не удосужились даже уничтожить мост через него). Враждующие армии отделены друг от друга всего лишь изрезанным тропинками лесом. Кавалерийский авангард пруссаков находится в 1000 шагах от боевых порядков РИА: «Из своего лагеря мы могли видеть их (русских. – Д. С.) бивачные огни»[260].
В комнатке на Нойдаммской большой мельнице Фридрих беседует со своим постоянным спутником Анри де Каттом и, верный репутации короля-философа, правит неудачные места в стихотворении Жан-Жака Руссо. Позднейшим комментаторам это казалось манерной выдумкой, но на этот раз зря – правка сохранилась в бумагах короля[261]. Собрав генералов, Фридрих оглашает громко диспозицию на завтрашний день: «Завтра, если Богу угодно, будет баталия». Затем вполголоса в сторону, командующему кавалерией Зейдлицу: «Это я для обозных (Packknechte)», – желая сохранить репутацию фаталиста и агностика[262].
Король пребывает в прекрасном настроении и, по всем свидетельствам, вполне уверен в совершенном успехе, хотя и оставил по обыкновению подробные указания на случай своей гибели в бою – в сем случае даже в двух экземплярах[263]. Ибо рациональный Фридрих хорошо знает о непредсказуемости баталии, существующей вне плоскости «века разума»: «Я устраиваю так, чтобы сбить неприятеля, не потеряв много людей; но ‹…› мелочь может поменять все»[264]. Война вообще существенно скорректирует его философию, и по мере ее продолжения Фридрих все чаще начинает говорить о роли случая и удачи[265].
В ту же ночь всех горожан Нойдамма по приказу короля мобилизуют со своими лопатами и прочим шанцевым инструментом на постройку второго моста через Митцель[266].
Предоставив полную инициативу противнику и свернув палатки, российская армия нервно ожидает в боевых порядках сюрпризов от своего визави за лесом[267]. Сакраментальный вопрос – о чем они думают? «Самая ясная полночь, какую я когда либо запомню, блистала над нами. Но зрелище чистого неба и ясных звезд не могло меня успокоить: я был полон страха и ожидания», – пишет взятый Фермором в Мариенвердере своим капелланом пастор Христиан Теге[268]. Потом, однако, «ослабев от душевного волнения, крепко заснул» и он. Как, уверен, большинство тех, кто мог себе это позволить. Как беззаботно спали, к примеру, и перед Бородином. Люди эпохи были не столько сентименталисты, сколько фаталисты[269]. В theatrum mundi барокко смерть была законным и постоянно представленным на сцене действующим лицом. Для простых смертных возможная гибель нередко казалась избавлением от невыносимых тягот войны, вожделенным покоем[270], «прирученной смертью» (la mort apprivoisée)[271]. «Смерть свою за покои щитают», – отзывается А. Т. Болотов негодующе о своих крестьянах[272]. Но в том же духе пишет домой и молодой остзеец поручик Карл фон Кеттлер: «Mein Gott wen wird unser elendes Leben einmahl ein Ende haben!» («Бог мой, когда же закончится, наконец, наша жалкая жизнь!», № 105).
Двумя полюсами на шкале отношения к смерти могут служить главные протагонисты Прусской войны: с одной стороны, философский стоицизм Фрица («Вы вечно, что ли, жить хотите?»), с другой – панический ужас Елизаветы Петровны перед кончиной, с ее известными запретами носить траур при дворе и устраивать погребальные процессии в центре столицы.
Честолюбивые и/или неимущие офицеры же, вполне можем предположить, потирали руки и строили планы, предвкушая производство на «упалые места».
В отличие от Федора Федоровича Вилиму Вилимовичу вряд ли до Руссо. Привыкнув командовать огромным и пока еще неповоротливым механизмом армии, отягощенной массой обозов, Фермор не мог себе представить таких экспромтов от противника. Изумление проскальзывает даже в его оправданиях перед Конференцией, когда Фермор пишет об «азартном неприятеле», «который своими поспешными движениями и королевским присутствием в своей земле почти невозможное возможным делает»[273]. Судя по всему, он вряд ли штудировал присланный в начале кампании союзниками-австрийцами мемуар о военном искусстве Фридриха и способах борьбы с ним[274]. Вообще в поведении Фермора в непосредственный канун битвы несомненно сказывается психологическое давление от необходимости сражаться с лучшим в Европе полководцем, как опять-таки полвека спустя в столкновениях с Наполеоном.
Ситуация на доске меняется резко не в пользу русских. Фридрих идет на сознательный риск, вклинившись между ними. Однако он достиг сразу нескольких целей, отрезав треть армии, дивизию Румянцева, от основных сил, – а с ним большую часть кавалерии. Он заставляет русских развернуть фронт на 180 градусов против первоначальной диспозиции. Полки второй линии оказываются в первой. Частично их успели поменять, но не все. В Обсервационном корпусе впереди оказываются теперь 4‐й и 5‐й Мушкетерские полки, тогда как более сильный Гренадерский во второй линии. Приходится перетаскивать и артиллерию, не везде поспевая к сроку.
Российская армия оказывается зажатой между лесами, болотами и ручьем Митцель, «имея перед собой два водоема и болота, не преодолимые иначе как вплавь»[275]. Скученность в несколько линий на узком пространстве уменьшала русскую линию огня, и, наоборот, «почти ни одно прусское ядро не могло пролететь мимо»[276]. Равнина в этом месте, как говорилось, была разрезана тогда еще заросшими редким лесом и частью заболоченными лощинами. Они и небольшой лесной массив непосредственно перед русскими позициями со стороны Цорндорфа фактически разделяли поле битвы на части.
В выборе русской позиции, помимо большой спешки, если не сказать, паники, видны в целом недостатки квартирмейстерской работы[277]. Возможность обходного маневра пруссаков явно не учитывалась вообще; лесные пути, которыми армия Фридриха затем обходит русских, не разведаны. Хотя там достаточно узких мест, чтобы надолго задержать раздельно двигавшиеся прусские колонны[278]. Вот где сказывается отсутствие в русской армии егерских полков, которые наиболее пригодились бы в подобной ситуации.
Очевидно невыгодной стороной стиля командования Фермора было то, что решения принимались им в этот момент единолично[279]. Вступает в силу вечный бич российской армии – дрязги в генералитете. О неприязни между Фермором и Румянцевым уже упоминалось, но еще более напряженные отношения сложились у аншефа с командующим Обсервационным корпусом Броуном. Весной 1758 г. тот жаловался на Фермора в Петербург и даже в сердцах подавал прошение, не желая быть под его командой. Императрице Елизавете Петровне пришлось лично замирять двух командующих, но, несмотря на формальное перемирие, трения оставались[280]. В то же время Фермор ценил в Броуне способного командующего, ибо помимо него, как он сам замечал осенью 1758 г., «у меня нет среди генералитета ни одного сколько-нибудь годного подчиненного»[281]. По словам недолюбливавших его австрийцев, Фермор, «скрытный и замкнутый […] Не известен ни один из генералов, к которому командующий испытывал бы особое доверие, кроме генерал-майора Дица [см. № 102–103] и Мордвинова [№ 60], полковника Ирмана, своего генерал-адъютанта капитана Борисова [см. № 62] и своего лейб-медика, немца. Все это, впрочем, люди не очень далекие (besitzen nicht viel Witz)»[282].
Паралич связи командования с генералитетом сказывается на баталии: кроме общей диспозиции, написанной до баталии[283], ни одного приказа от Фермора до конца битвы больше не поступало. Если бы Лев Николаевич Толстой вознамерился вместо Бородина описать Цорндорф, то, наверное, порадовался бы, насколько происходившее вписывается в его философию истории. Ход битвы никак не зависел от главнокомандующего, атаки предпринимались самостоятельно генералами на местах или вообще происходили стихийно. Почти как и год назад, «диспозиции наперед никакой не было сделано, да и некогда было делать, а всем сам Бог управлял и распоряжал»[284].
Однако последовавшее после маневра Фридриха превращение из преимуществ в недостатки русских позиций было, как стало ясно в ходе самого сражения, не последней метаморфозой. Ограниченность маневра для русских означала и невозможность маневра для пруссаков. Юркая армия Фридриха теряла один из главных своих козырей. Она физически не могла обойти русские позиции, как обошла, к примеру, австрийцев под Лейтеном в предыдущем, 1757 г. Пруссакам ничего не оставалось, как атаковать в лоб, и на следующем после артиллерийской дуэли этапе сражения уже они понесли тяжелые потери от русского огня. Как мы увидим при ближайшем рассмотрении, управляемость событий и с прусской стороны сильно преувеличена, а Фридрих оказывается почти такой же, как Фермор, фигурой в «колоссальных руках пуппенмейстера».
171
Dohna 1783, 11, 15.
172
Как он выражался, узнав об обычае троекратного целования русских на Пасху (Масловский II, 175 второй пагинации).
173
Коробков 1948, 328; Seidel 1889, 72, 74.
174
Л. Эйлер – П. Л. М. де Мопертюи, Берлин, 16.09.1758 // Leonhardt Euler. Opera Omnia. Series Quarta A: Commercium Epistolicum: Vol. VI. Basel 1986, 242 (ссылкой на это издание я обязан И. И. Ефишову, Калининград); Репорт комиссара Брацишевского В. В. Фермору от 07/18.07.1758 (Коробков 1948, 300); Dohna 1783, 17.
175
Аноним [прусский офицер корпуса гр. Дона]. Лагерь при Блейене 19.08.1758 // OeStA. KA. FA. AFA. HR. Akten 664. Bl. 8; Bratring F. W. A. Statistisch-topographische Beschreibung der gesammten Mark Brandenburg. Bd. 3. Berlin 1809, 94.
176
Podruczny 2013. Подробно об осаде Кюстрина: Ehrhardt 1769; Ласковский 1865, 492–513, краткое современное изложение: Анисимов 2016, 111–116.
177
«Кюстрину бояться нечего: как только разрушат мосты, ни одна бомба в него попасть не сможет» (Фридрих II – гр. Дона, Хайнцендорф 13.08.1758 // PC XVII, № 10206).
178
РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. 114. Ч. 3 (4). Л. 255 (реляция Фермора от 31.08/11.09.1758).
179
Seyffert 1801, 113–114; Neudammer Magistrat 195; Ehrhardt 1769, 79.
180
Муравьев 1994, 43. На это же по получении известия о сожжении крепости надеялись и в Петербурге (М. Эстерхази – В. А. Кауницу, Стрельна 29.08.1758 // OeStA. HHStA StAbt Russland II 40. Bl. 99).
181
Масловский II, 222. «При армее осаднои артилери нет да и инако оную получить как толко флотом чрез устье реки одера способа непредвидится» (Донесение в Конференцию о держанном в Мариенвердере 20 марта 1758 г. военном совете // РГВИА. Оп. 16. Д. 1663. Л. 167). В Конференции полагали, что единороги – орудия новой конструкции – станут заменой осадной артиллерии (Коробков 1948, 251), но из‐за окружавших крепость болот удаление русских батарей от крепости было слишком велико.
182
Шеф 11 Драгунского полка (Jung-Platen) Леопольд Иоганн фон Платен (1726–1780) из подошедшего к тому моменту пополнения гарнизона от корпуса Дона.
183
Карл Отто фон Штакельберг – Фридриху Конраду Гадебушу, Рига 1785 // Archiv Stackelberg II, 151.
184
М. Н. Волконский – Д. М. Волкову, Познань 07.01.1761 // АКВ VI, 333.
185
«Всю [Российскую] армию, включая Обсервационный корпус, по моему мнению следует всегда располагать таким образом, чтобы за один усиленный марш она могла объединиться и поддержать друг друга» (Промемория ген. Сент-Андре для российского генералитета, лагерь под Кюстрином 11/22.08.1758 // OeStA. KA FA AFA HR. 13. 7а).
186
Kalkreuth 1839, 26 четвертой пагинации.
187
«Надо вести оборонительную войну, – да легко сказать, любезный маркиз! – писал Фридрих годом позже маркизу д’Аржану. – Я тут зажат в треугольнике: слева русские, справа Даун, за спиной шведы ‹…› Наоборот, до сих пор я держусь лишь тем, что атакую всех, кого можно» (цит. по: Elze W. Friedrich der Große. Berlin 1936, 195).
188
«Pour attaquer l’armée russienne et de la combattre de façon que nous n’aurons rien plus à appréhender de ce côté-là» (Фридрих II – принцу Генриху Прусскому, Вернерсдорф 08.08.1758 // PC XVII, N 10190).
189
Archenholz 1788, 251; Catt 1884, 154, 357.
190
Фридрих II – Фердинанду Брауншвейгскому, Блюмберг 01.09.1758 // PC XVII, N 10266. Впрочем, наряду с «арапчонком» калмык – вполне распространенный подарок: Джеймс Кейт, к примеру, в благодарность за подаренного «молодого негра» дарит своему брату Джорджу привезенных с Русско-турецкой войны «татарина Ибрагима» и «калмыка Степана» (Varnhagen von Ense 1844, 68). «Калмычонок» в дворянских домах самой России – свидетельство модного «ориентализма» XVIII в., см. картину «Калмычонок с собакой» (ГРМ, Ж-8905, 1790‐е гг.).
191
Доля III, 42–57. Подробно о действиях шведов: Sulicki 1867.
192
Посланный с разведывательной миссией в Берлин летом 1758 г. поляк Брацишевский получает сведения от своего информатора-иезуита во время исповеди, а затем проникает вместе с ним в королевский замок (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Ч. 1. Д. 1663. Ч. II (1). Л. 22). Отступая из Ландсберга осенью 1758 г., РИА оставляет в городе на манер советского подполья завербованного поручиком Венцковским «итальянской нации купца, которой от магистратских того города чинов потому, что он католицкой веры, как он сам в бытность армеи под Ландсбергом асесору Веселицкому признался, презираем и утесняем бывает». Купец «Конрад прозванием» получил от Веселицкого письмо на итальянском языке с гарантиями и инструкциями связываться с «гаубт-квартирой» через Иосифа Лока (Там же. Ч. II (2). Л. 333 об. – 334). О преследовании католиков Фридрихом II в отторгнутой от Габсбургов Силезии см.: Хаванова 2018, 190–202.
193
«Послал у нему (Локу. – Д. С.) для приласкания его три пары соболей», – сообщал Фермор в Петербург. Соболями, похоже, рассчитывался со своей резидентурой и сам аббат, который немного позже «просил приказать ему один соболей мех от 6. до 700 рублев выписать» (РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1663. Ч. 2. Л. 132–133, 192 об. – реляции от 31.08/11.09 и 08/19.09.1758). См.: Соловьев, 206.
194
Schaefer 1870, 89.
195
Dohna 1783, 33–34.
196
Буквально: «облЕтение». См.: Mitchell II, 39.
197
См.: N 1287, Bl. 62; Муравьев 1994, 44.
198
Яковлев 1998, 88.
199
Как ни пытается уверить в обратном Масловский II, 230–232.
200
См. оправдания в: ЖВД, 249; Tempelhof 1785, 221.
201
Фридрих II – гр. Дона, Лигниц 12.08.1758 // PC XVII, N 10202.
202
Коробков 1948, 322.
203
Kalkreuth 1838, 28 четвертой пагинации.
204
Catherine II 1859, 297.
205
П. А. Румянцев – И. И. Шувалову, Ландсберг 31.08.1758 // Шувалов 1872, 512; Принц Карл, 116; Яковлев 1998, 90.
206
Штофель(н) Христофор Федорович (1720–1770) – инженер-полковник (1756), генерал-квартирмейстер (1757).
207
Масловский II, 211–214 второй пагинации. Масловский публикует комментарии Фермора на рапорт Румянцева, опущенные позднее советскими издателями (Румянцев 1953, 181 et passim).
208
Резанов, Гавриил Андреевич – в 1758 г. генерал-майор, генерал-поручик, командующий тыловым корпусом РИА.
209
Костюрин 1759, 357; Schaefer 1870, 101.
210
П. А. Румянцев – И. И. Шувалову, Ландсберг 31.08.1758 // Шувалов 1872, 512–513.
211
Яковлев 1998, 85.
212
Теге 1865, 1148–1149.
213
Что Румянцев оценил как «персональное уничтожение» и «умерщвление для себя» (Румянцев 1953, 225).
214
Берг, Густав Густавович (1716–1778) – бригадир (1756), генерал-майор (1759).
215
Tempelhof 1785, 238; Generalstab 1910, 158. Накануне из полка Гордта дезертировало 700 австрийцев, т. е. половина полка. См. реляцию самого П. А. Румянцева о дезертирах из этого полка от 27.06.1758 (Румянцев 1953, 145–146). О бое: Hordt 1788, 192, 194–195; Sulicki 1867, 120–121.
216
Масловский II, 211–214 второй пагинации.
217
GStA PK I. HA GR, Rep. 63, N 1446 (фрагменты бумаг, пересланные маркграфом Фридрихом Вильгельмом Бранденбург-Шведтским).
218
Mitchell I, 438–439; «Фермор был предоставлен сам себе» (Generalstab 1910, 113, 117).
219
В. А. Кауниц – Г. А. фон Штарембергу и М. Эстерхази, Вена 08.09.1758. Этот Гайслер затем участвовал в Цорндорфской баталии, отвез реляцию о ней в Вену, пожалован Марией Терезией чином ротмистра и 200 дукатами (Arneth 1875, 532; Муравьев 1994, 44).
220
Frisch 1919, 111.
221
Яковлев 1998, 92.
222
Эндрю Митчелл – графу Холдернессу, Блюмберг 01.09.1758 // Mitchell I, 441.
223
Frisch 1919, 111; Hartmann 1985, 176; Принц Карл, 117.
224
Mitchell I, 441.
225
Яковлев 1998, 90. Последнее вполне возможно, ибо Фермор ясно представлял себе последствия беспричинного отступления, как у Апраксина в предыдущем году.
226
Масловский II, 228 второй пагинации; АКВ III, 559.
227
Tagebuch eines preußischen Offiziers, 371–372.
228
Яковлев 1998, 90.
229
Нижняя граница представляется более реалистичной. Немецкий Генеральный штаб насчитал 34 200 пехоты, 5000 регулярной и 3260 иррегулярной кавалерии, а также 1700 полевой артиллерии и инженеров. При армии находилось также более 5000 нонкомбатантов. Не задействованными в баталии остались от 4 до 6000 человек прикрытия вагенбурга в Каммине, 11 000 из дивизии Румянцев и несколько мелких отрядов (Generalstab 1910, 463–464).
230
Die Infanterie «bestehet, besonders was die Grenadiers betrifft, aus höhe (sic!) und dauerhafter Mannschaft, und aus Leuthen von einem blinden Gehorsam» (Anmerkungen / «Замечания» Де Фине о состоянии РИА, ноябрь 1758 г. // OeStA. HHStA Kriegsakten 373–2. Karton 3, Bl. 33RS).
231
Прусская армия, по тем же данным немецкого Генштаба, насчитывала почти 25 000 инфантерии, 10 500 кавалерии и 1125 артиллеристов (Ibid., 461).
232
См. подробный рассказ о поездке в том же 1758 г. серба Пишчевича, майора на русской службе (1731–1797), аж в Трансильванию для покупки завóдных лошадей для дворцовых нужд (Пишчевич 1884).
233
«Гусары и казаки же – сущая моровая язва [Российской] армии» (Де Фине – В. А. Кауницу, Драмбург 24.10.1758 // OeStA. HHStA Kriegsakten 373–2. Karton 3, Bl. 17).
234
Trützschler 1838, 142.
235
Пишчевич 1884, 452. М. А. Муравьев о гусарах на предыдущей Русско-шведской войне: «на эдакое дело (разведку. – Д. С.) напиваютца для смелости допьяна» (Муравьев 1994, 15–16). Ср. выговор П. А. Румянцева полковнику Грузинского гусарского полка Амилохварову 1757 г. с перечнем нестроений (Румянцев 1953, 32–34).
236
Salisch 2009, 250; Poniatowski 1914, 239–240, 267. См.: H. v. S. Das sächsisch-polnische Kavalleriekorps im österreichischen Solde // Jahrbücher für die deutsche Armee u. Marine. Bd. 1878, 36–59, 129–160, 237–278.
237
Dohna 1783, 27. О босняках, в том числе их участии в кампании 1758 г.: Genthe, Franz. Die Bosniaken in der preussischen Armee. Ein Beitrag zur Geschichte der bosnischen Lanzenreiter in den Armeen fremder Mächte. Wien 1901, 176–178.
238
Всеподданейший доклад Придворной конференции 31.05.1756 // Струков 1902, 226.
239
Об учреждении артиллерийского банка (предложение П. И. Шувалова от 14/25.03.1760 // В. к. Георгий Михайлович 1896 I, 225. Об устройстве артиллерии при Шувалове см.: Егоров В. И. «По усмотрению генералов фельдцейхмейстеров» […] // Егоров 2014, 115–123.
240
Нилус 1904, 267; Эйлер А. А. Записки // РА 1880. Кн. 2. Вып. 4, 333–399.
241
См.: № 32–36 и Действующие лица, Данилов 1842.
242
Данилов 1842, 81–82; см. в общем: Нилус 1904, 258–271; Оточкин 1999.
243
Оточкин 2015, 319.
244
Пашута, Оточкин 2013, 440.
245
По итогам Цорндорфа П. И. Шувалов отмечал: «По причине недостаточного числа […] артиллеристов […] наша артиллерия до того доведена, что при побитии [их] не оставалось из ней кому стрелять» (Масловский II, 217 второй пагинации).
246
Убито более половины лошадей (Бранденбург 1898, 302).
247
По «Генеральной диспозиции» сражения (Коробков 1948, 311).
248
Genesis M. Chwarszczany – Kriegsopfer oder Delinquent? Eine atypische Bestattung aus dem 18. Jh. // Auler J. (Hg.). Richtstättenarchäologie. Bd. III. Dormagen 2012, 58–65.
249
Ср.: Бобровский 1892, 170.
250
Carlyle Th. History of Frederick II. of Prussia called Frederick the Great. Vol. VII. L. 1898, 67.
251
Fontane Th. Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Bd. 2: Das Oderland. B. 1863, 64; Generalstab 1910, 121–122.
252
См.: Karpiński, Wrzosek 2013; Podruczny, Wrzosek, 2012.
253
Tielke 1776, 140.
254
Pauli VI, 56.
255
Яковлев 1998, 92.
256
Ср.: Шпилевская Н. Описание войны между Россиею и Швециею в Финляндии в 1741, 1742 и 1743 годах. СПб. 1859. Общий принцип, изложенный позднее афористично Суворовым: «линиею против регулярных; кареями против басурман». См. также Generalstab 1910, 466.
257
Масловский I, 268.
258
Ср.: Tielke 1776, 92–93.
259
Friedrich II, Guerre de Sept Ans, 307; Фридрих II – принцу Генриху Прусскому, 10.08.1758 // PC XVII, N 10198.
260
Hoppe 1793, 184; Kalkreuth 1839, 28 четвертой пагинации.
261
Vers corrigés la veille de la bataille de Zorndorf, 24.08.1758 // GStA PK, BPH (Brandenburg-Preußisches Hausarchiv), Rep. 47 König Friedrich II. (M), F I B Spezialia 3,64; Wengen 1894, 163.
262
Kalkreuth 1839, 29 четвертой пагинации.
263
Generalstab 1910, 453.
264
Catt 1884, 357.
265
PC XVIII, N 10897, 11382.
266
Neudammer Magistrat 1926, 196.
267
Tielke 1776, 90
268
Теге, 1121–1122.
269
Ср.: Berkovich 2017, 226.
270
Ср.: Мерле В. (изд.) На войне под наполеоновским орлом: дневник и мемуары вюртембергского обер-лейтенанта Генриха фон Фосслера. М. 2017, 149.
271
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М. 1992, 7.
272
Смилянская 1998, 42.
273
Яковлев 1998, 92.
274
Frisch 1919, 59.
275
Реляция барона Сент-Андре от 23–31.08.1758 (Frisch 1919, 111).
276
Tielke 1776, 140.
277
В отсутствие генерал-квартирмейстера Штофельна, командированного вместе с отрядом Румянцева, его задачи выполнял флигель-адъютант Фермора полковник Андрей Аврамович Ирман / Andreas Ihrmann (1724 – после 1779). Ирман явно имел некие доверительные отношения с Фермором: при отзыве главнокомандующего в Петербург он был выслан вперед, чтобы приготовить лошадей (OeStA. HHStA. Kriegsakten 373–2, Bl. 12). Именно Ирмана принц Карл Саксонский считал ответственным за выбор неудачной позиции (Принц Карл, 123). Тем не менее после баталии тот был произведен в генерал-квартирмейстер-лейтенанты (Масловский II, 302 второй пагинации). Сам Фермор состоял генерал-квартирмейстером при фельдмаршале Минихе в Русско-турецкую войну 1735–1739 гг.
278
Mitchell I, 428.
279
Оправдания Фермора по поводу отсутствия военного совета перед баталией см.: Яковлев 1998, 89. Впрочем, тот же стиль командования, ревнивое соблюдение единоличных компетенций и недостаток передаточного звена среди генералитета сторонний наблюдатель отмечал и для предыдущей кампании применительно к С. Ф. Апраксину (Trützschler 1838, 137).
280
РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 115 (1). Л. 18–19 (реляция Броуна от 05/16.03.1758); прошение Броуна (Грауденц, 05.03.1758) // Броун 1862, 196. См. подробно: Кудзеевич 2015, 435–437.
281
Де Фине – В. А. Кауницу, Мариенвердер 6/17.11.1758 // OeStA. HHStA Kriegsakten 373–2. Karton 3, Bl. 45.
282
«Er ist sehr hinterhaltig und verschwiegen» (Anmerkungen / «Замечания» полковника де Фине о состоянии РИА, ноябрь 1758 г. // OeStA. HHStA Kriegsakten 373–2. Karton 3, Bl. 35–35RS).
283
Генеральная диспозиция Фермора от 14.07.1758 (Масловский II, 188–194 второй пагинации); Костюрин 1879, 355; Яковлев 1998, 91.
284
Болотов I, 535 о Гросс-Егерсдорфе.