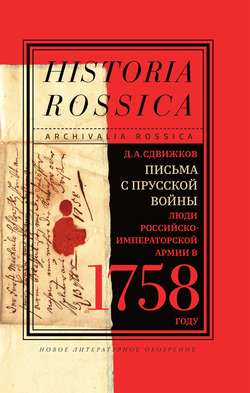Читать книгу Письма с Прусской войны - Денис Сдвижков - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Введение[1]
«Безпримерное происшествие»
ОглавлениеНе пыль во поле пылит. – Прусак с армией валит;
Наши зачали палить, – дымом с сажицей валить…
Они билися-рубилися четырнадцать часов.
Миновалася баталья, – стали тела разбирать…[144]
Рискуя утомить «штатского» читателя обилием подробностей и деталей, все же не могу далее не привести настолько подробную, насколько ее позволяют реконструировать источники, картину того, с чем столкнулись наши герои накануне, во время и после баталии, при написании своих писем. Привлечение личных свидетельств позволит, надеюсь, избежать анонимности и автоматизма описания военных событий в жанре «ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт».
Если микроистория немыслима без детального описания реалий времени и места, то Цорндорфская баталия представляет для этого исключительно благодатную почву. «Никогда и ни о какой баталии так много писано не было, как о помянутой цорндорфской или, как некоторые называли, кюстринской», – справедливо в сем случае замечает Болотов[145]. Неопределенный итог Цорндорфа стал не только предметом войны перьев в европейской прессе и публицистике, но и внутренних разбирательств, следы которых отложились в различных архивах. В России невиданные потери в битве и неоднозначные результаты похода 1758 г. привели сразу к нескольким расследованиям. Непосредственно после баталии отдельные реляции были составлены по неформальной инициативе И. И. Шувалова (№ 3, комментарий). Отдельное расследование по своему ведомству провел его брат генерал-фельдцейхмейстер П. И. Шувалов[146]. Вскоре при участии третьего брата А. И. Шувалова последовало формальное разбирательство со стороны Конференции при Высочайшем дворе, которое уже шло по привычным рельсам: только что апоплексическим ударом С. Ф. Апраксина закончилось расследование неудач предыдущей кампании 1757 г. В Заграничную армию в феврале – марте 1759 г. был направлен комендант Петропавловской крепости (и шурин А. И. Шувалова) Иван Иванович Костюрин, разосланы опросные листы генералитету и штаб-офицерам, вызван и допрошен главнокомандующий В. В. Фермор[147], а затем отдельно и его капеллан, пруссак Христиан Теге[148]. К этим разбирательствам примыкает дело бригадира Михаила Стоянова, включающее обширные допросные тексты[149]. А также более мелкие военно-судные дела, касающиеся беспорядков во время «смятения», «порубления» офицеров, разграбления экипажей и обоза[150].
Однако и в Пруссии обстоятельства битвы привлекали к себе не меньшее внимание, от разбирательств по поводу ненадлежащего поведения на поле битвы прусских полков[151] до свидетельств местных хроникеров и бесчисленных попыток историков и любителей восстановить детальный ход сражения.
И все-таки даже в сопоставлении всех этих свидетельств из пыли и дыма, вот уже 260 лет густой пеленой окутывающих Цорндорфские поля, по-прежнему проступают не всегда ясные контуры. Установить, «как было на самом деле», вряд ли получится. Но это и не требуется. Подобно современному фильму с множественным выбором финалов, каждая из «своих» битв имеет право на существование, и наш корпус писем вливается в это море текстов.
Итак:
Идет 1758 год. «От рождения Ея Императорского Величества» и «от победы, полученныя под Полтавою» же 49‐й, как многозначительно сообщает календарь[152]. Для нас важнее, что это третий, а для России второй (считая с вступления ее в боевые действия в июне 1757 г.) год «от зачатия Прусской войны». Она же – «Третья силезская» или «Прусско-австрийская» в немецких землях, «Померанская» в Швеции, «Франко-индейская» и «Завоевательная» в Новом Свете, «Третья Карнатикская» в Индии. И уже по одному этому разнообразию названий можно судить о масштабе войны, известной потомкам как «Семилетняя».
Российская империя на этот момент довольствуется пусть широким, но все еще окном в Европу. На юге она по-прежнему отрезана от моря. Ее западные границы проходят по линии Киев – Смоленск – Рига, вдоль Западной Двины и Днепра. Между Пруссией и Россией еще лежит обширная Польша, разделяющая также владения прусского короля на Балтийском побережье с анклавом в Восточной Пруссии. У нас нет с пруссаками реальных долгосрочных противоречий, в отличие от Франции и Швеции, с которыми Россия состоит на этой войне в скорее случайном союзе. Наш интерес «воевать Фридерика» более умозрительный. Лишь недавно растолкав всех локтями и усевшись за столом великих держав, мы намерены вытеснить с него следующего парвеню, который только что унизил Австрию, усилив свое Прусское королевство присоединением богатой Силезии. Многократно воспроизводимая цель – «сократить короля Прусского», «который столь умножил военную силу и мечтает стать владыкой Севера», чтобы сделать его «нестрашным и незаботным» «для здешней Империи» – что должно подтвердить нашу «инфлюенцию» в европейских делах[153].
Праздничный фейерверк на новый 1758 г. в Петербурге обещает, что «российская Минерва» «усугубит свои удары» против «новых титанов», и «воссияет всеобщая тишина с вечным благодарением Европы»[154]. Пока же, несмотря на одержанную под Гросс-Егерсдорфом победу над пруссаками, поход 1757 г. по Восточной Пруссии под командованием Степана Федоровича Апраксина результатов не принес. После хаотического отступления российская Заграничная армия находится в жалком состоянии, и пруссаки не верят в возможность ее скорой мобилизации[155].
Зря. Уже в январе 1758 г., как только более или менее установилась зима (хотя и без снега, что сильно осложняет дело), русские вновь выступают в поход уже под начальством Вилима Вилимовича (Уильяма) Фермора[156]. В новеньких душегрейках под кафтаны и рукавицах, выправленных на пожалованные императрицей деньги (по рублю каждому – и как тут не оценить истинно «матернее усердие» Елисавет Петровны: надень варежки, замерзнешь)[157]. Акция, заметим, вовсе не спонтанная. Вроде бы далекая от военных дел императрица задолго до того рассчитывала привлечь «генерала мороза», замечая: «Тогда как прусские войска ‹…› в их коротких кафтанах не могут выносить холода, с [моими] можно действовать и зимой», даже «с особенным оживлением (besonders vergnüglich) высказывалась по поводу зимних операций»[158].
Занятый на юге борьбой с «цесарцами», Фридрих II не в состоянии противодействовать русским, а оставленный на «восточном фронте» корпус блокирует наступление шведов с севера около Штральзунда. 22 января 1758 г. русские беспрепятственно занимают Кенигсберг, а затем и всю Восточную Пруссию.
Первоначальный план предстоящей летней кампании был разработан в Петербурге Конференцией при Высочайшем дворе[159]. Он предусматривал сосредоточение Главной армии на польском правобережье Вислы в ожидании Обсервационного корпуса. Это отдельное новое формирование, фактически армия в армии – творение и любимое детище гр. П. И. Шувалова, созданное специально ввиду Прусской войны. Корпусом на тот момент командовал Джордж (Юрий, Георг) Броун[160]. Фермору предлагалось послать отряд в Померанию, отвлекая пруссаков там, договориться с польскими магнатами о создании магазинов для русской армии на западных территориях Польши, а после того главным силам в координации с Броуном «с крайней поспешностью» идти в направлении на Берлин и занять ключевую крепость Кюстрин, сделав ее главным лагерем российской армии. Овладение Кюстрином должно было отрезать померанский корпус пруссаков и стать желательным финалом кампании на этот год, избегая при этом по возможности генеральной баталии.
Вопреки господствовавшему у русских военных историков мнению, Придворная конференция отнюдь не связывала командующего по рукам и ногам. Скорее наоборот: «Без получения особого приказа Фермор ничего не предпримет, дожидаясь сперва повеления от своего двора»[161]. Тогда как Петербург как раз тактично сообщал Фермору при доведении общего плана, «что не будучи с вами на месте, не можем давать вам на все литеральных предписаний»[162].
С началом навигации армия получает амуничное и мундирное довольствие, восполняет недостаток в людях и в лошадях. «Приближалась весна ‹…› Солдат чистил ружье, офицер расплачивался по счетам и снаряжал экипаж. Все готовилось, ожидая приказа к выступлению»[163]. С первой половины мая, «как скоро трава показалась», русские начинают пересекать Вислу сначала отдельными отрядами, а затем, уже в начале июня, выступает вся армия. Следуя далее по нейтральной Польше через Познань, она – вопреки плану Конференции, очень и очень неспешно, постоянно поджидая отстающий Обсервационный корпус, – доходит к августу до Одера на расстояние 80 км перед Берлином, занимая так называемую Новую Марку (Ноймарк, Новая Мархия) в Бранденбурге. Ее даже успевают окрестить «российской Новой Маркой» (Rußisch-Neumark, № 115). Разъезды доносят, что дороги на Франкфурт-на-Одере и крепость Глогау свободны. Но Фермор выжидает, ограничиваясь захватом моста через Одер в Шведте.
Cтратегия русских заключается в том, чтобы сохранить за своим театром военных действий второстепенную роль, обеспечив вдоль Балтийского побережья зону влияния России, а при удачном исходе и включив в нее новые территории. Которые в идеале, через договоренности с Польшей, могут помочь расширить присутствие империи на Балтике на севере, и даже «почти всю левантскую коммерцию в здешних руках иметь» на юге[164].
Российская Заграничная армия расценивалась в Европе как вспомогательный корпус (Russische Hülfsarmee или Auxiliararmée)[165] в австро-прусском противостоянии. Так видят начало войны и сами офицеры РИА: «объявлена от двора российскаго война, в цесарскую помощь, против прусской армии»[166]. Ко второй кампании, однако, акценты сдвигаются: армия видится воюющей «малой кровью на чужой территории» за собственные интересы[167]. Занятие Восточной Пруссии в начале кампании и удержание ее за собой идеально отвечает таким представлениям, и генерал-аншеф явно хочет продолжать в таком же духе. Принятое на военном совете в июне 1758 г. решение не идти на юг к Франкфурту-на-Одере, а занять территории к северу Фермор обосновывает возможностью воевать «без супротивления и пролития человеческой крови». Зная, как известия о военных потерях действуют на «всеми образами щадящую кровь своих подданных Государыню» (№ 3)[168], Фермор просит заступления перед теми, «которые только одну баталию на уме имеют, не взирая на дальнейшие следствия». Защищенный с юга Вартой, а с запада Одером, он собирается ждать, заключая недвусмысленно: «Как бы дело между Цесарской и Прусской армиями не решилось»[169].
Однако пассивность генерал-аншефа заходит слишком далеко даже для осторожного Воронцова. Вена во что бы то ни стало хочет видеть армию Фермора перешедшей Одер, действуя дальше вместе с фельдмаршалом Дауном, и через своего посланника Эстерхази методично давит на вице-канцлера. Воронцов заклинает командующего – для большей доходчивости, на немецком: «Jetzt ist jede Stunde, jedes Augenblick kostbar. Die bis hier über den Feind erhaltene Vortheile sind nur in so weit beträchtig, als sie den Weg zu einer complette[n] Victorie bahnen. Ein glückliches Treffen kann also allem Unruhen, in welchen man hier ohne Unterlass findet, ein Ende machen ‹…›»[170]. Однако, когда письмо достигает адресата, все уже коренным образом поменялось.
144
Киреевский 1872, 100.
145
Болотов I, 797.
146
Дело хранится в Архиве ВИМАИВИВС, см.: Бранденбург 1898–99; Оточкин 1999; Оточкин 2016.
147
Костюрин 1759; Яковлев 1998.
148
Теге 1865, 1114 et passim.
149
РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 114. Ч. 3 (5). Л. 283–289; Ч. 4 (3). Л. 180–182. Дело описано Соловьевым, 1054–1055.
150
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 1665. Ч. I (2). Л. 108.
151
См. переписку об отставке из‐за поведения в Цорндорфском сражении ген. Карла Фридриха фон Рауттера (I. HA Rep. 96, Nr. 89 C c 3).
152
Санктпетербургский календарь 1758 года, без пагинации.
153
АКВ III, 206, 232, 380, 537; АКВ VII, 537–538. «‹…› gegen so gefährlichen Nachbarn, welcher im Norden den Meister spielen will» (имп. Мария Терезия – М. Эстерхази, Вена 17.07.1756 // Volz, Küntzel 1899, 475).
154
См.: Костин А. Зачем жгли фейерверки в XVIII веке (http://arzamas.academy/materials/1196, посл. обращение 09.09.2017).
155
Generalstab 1910, 2–3.
156
См. подробно о нем: Действующие лица.
157
АКВ III, 456; Масловский I, 208–209 второй пагинации.
158
М. Эстерхази – В. А. Кауницу, СПб. 14.09.1756 // Volz, Küntzel 1899, 581.
159
Конференция при дворе Е. И. В. (1756–1762) – высшее государственное учреждение с совещательными функциями без четко определенных полномочий. В ее ведении были подготовка, планирование и координация военных действий РИА в Семилетней войне.
160
Об Обсервационном корпусе (1756–1760): Оточкин 2012, Татарников, Обсервационный корпус. В документах назывался «О(А)бсервационный, Новый, Новоформированный, Резервный корпус», в отличие от основной, «Главной армии». В российских и прусских источниках также встречается его обозначение как «Легион» (Dohna 1783, 12). О Броуне см.: Действующие лица.
161
«Der General Fermor wird ohne Einholung besonderer Befehle in keiner einstigen Sache etwas thun, ums dahero auch hierfalls erst die Ordre von seinem Hof abwarthen» (М. Эстерхази – В. А. Кауницу, Стрельна август 1758 г. // OeStA. HHStA StAbt Russland II 40. Bl. 89 RS).
162
Протокол Е. И. В. Конференции № 143 от 26.03/06.04.1758 (Коробков 1948, 245–252); рескрипт Конференции Фермору от 08/19.08.1758 (Масловский II, 314 второй пагинации).
163
Теге 1864, 1136.
164
Коробков 1948, 27 (Протокол Конференции от 15/26.05.1756).
165
Kurze Begebenheiten in Deutschland […] mit unpartheyischer Feder entworfen, von I. A. Rizzi-Zannoni. Nürnberg 1758, 98. См.: OeStA. KA FA AFA HR Akten 664.
166
Лукин 1865, 906.
167
«Обратить операции нашей армии, по примеру Французскому, в особливую сторону и работать на себя» (М. И. Воронцов – В. В. Фермору, СПб. 25.06/06.07.1759 // АКВ VI, 355).
168
Catherine II 1859, 298.
169
В. В. Фермор – М. И. Воронцову, Кенигсвальде 23.07./03.08.1758 // АКВ VI, 342.
170
«Теперь дорог каждый час, каждое мгновение. Достигнутые над неприятелем авантажи весомы только в той степени, что прокладывают дорогу к совершенной виктории. Счастливая акция может положить конец всяким беспокойствам, в которых тут пребывают беспрерывно» (пер. с нем., М. И. Воронцов – В. В. Фермору, [СПб.] 01/12.08.1758 // Там же, 351). О том, что это письмо написано по просьбе Вены: М. Эстерхази – В. А. Кауницу, СПб. 05.09.1758 // OeStA. HHStA StAbt Russland II 40. Bl. 113RS.