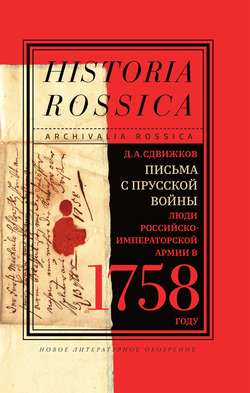Читать книгу Письма с Прусской войны - Денис Сдвижков - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Введение[1]
Проблемы и контекст
ОглавлениеВойной ты началось, закончишься войною, –
Войною сабель и войною перьев,
Столетье![34]
Одна из ключевых проблем истории как науки – в соотношении уникального и общего, единичного и обобщения. В нашем случае присутствует случайность в квадрате: отдельные письма представляют собой не только индивидуальные казусы/кейсы; произвольно, на полуслове вырванное из темноты прошедшего на полуслове и обрывается. Случай стоит в начале замысла, случай определяет правила игры и заявляет о себе как о полноправном, а то и главном участнике на празднике исторического познания.
«Однажды в архиве мне случайно попалось…»: немало исторических исследований начинается так или похожим образом. Характер подобных находок, демонстрирующий и магию, и неопределенный статус исторического ремесла, равно как и неизбежная фрагментарность найденного, ставит историка перед вопросом: что с этим, собственно, делать? Публиковать в жанре археографов позапрошлого столетия «новыя материалы к…» порочно по отношению к читателю, который остается один на один с сырым материалом. Но и для монографии корпус источников все же ограничен. Здесь выбран компромиссный путь: тексты публикуются in extenso, в сопровождении других материалов и с развернутым комментарием, предлагающим, но не навязывающим интерпретацию. В таком случае сам материал в большой степени диктует вопросы и рамки, а не наоборот, когда выжимки из него служат иллюстрацией к более или менее априорным тезисам[35].
В нашем случае личный характер документов сразу поворачивает указатель на историческую антропологию – историю людей. Круг авторов писем подразумевает исследование определенной социально-профессиональной группы. Историю скорее микроуровня. И историю локальную, ибо центральный содержательный стержень этих писем, баталия и следующий за ней период, привязан к определенным пространственным и временным координатам[36].
Скелет первоначальных справочных комментариев понемногу обрастал плотью деталей; обнаружившиеся ниточки заставляли, как котенка с клубком, не выпускать их, прослеживая дальше. Среди этих своеобразных гиперссылок были и синхронные, отсылавшие к персоналиям и реалиям той же эпохи, и асинхронные, которые вели в последующие времена вплоть до современности. Комментируя, к примеру, письмо И. П. Леонтьева (№ 73), я обнаружил, что выстроенную им и разрушенную во времена оны усадьбу выкупил и восстановил современный потомок. Отослав в усадебный музей копию письма прапрапрабабке, которую та 260 лет назад так и не получила, можно было почувствовать хоть отчасти, что такое власть над временем. Обнаружилась между тем и масса перекрестных ссылок между письмами и их авторами. Естественным путем вводные комментарии переросли в своего рода histoire totale или пусть ограниченную, но энциклопедию военно-офицерской русской жизни на данную эпоху. В этом контексте найденные тексты звучат по-иному и по-иному позволяют выстроить обобщения.
Вырисовывавшийся сценарий с крупными планами диктовал, в свою очередь, необходимость максимально сузить временные рамки. Взять в этом качестве год – прием вполне проверенный и популярный, будь то годы судьбоносные, вроде 1812, 1913, 1917, 1937, или, наоборот, заурядные, позволяющие лучше ощутить вкус повседневности, как, скажем, 1718[37].
Письма, как сообщает и заголовок, с войны. Война и баталия предстает на разных уровнях от высшего командования до подпоручиков и штабных канцеляристов. Ощутимо меняется оптика видения событий, становится хотя бы отчасти доступен опыт переживания «простого» (условно – насколько «прост» может быть имеющий офицерское достоинство) человека[38]. Второе столь же очевидное: в антропологическом ракурсе, к которому располагают письма, война предстает повседневностью особого рода, сопровождаемой экстремальными переживаниями[39]. Это придает письмам особый оттенок живости в жанре «пишу тебе на сапоге убитого товарища»[40].
Его видно в самом буквальном смысле: вот черкает несколько строк через силу насквозь промокший Яков Брюс, прежде чем завалиться на тюфяк (№ 26); вот расплываются буквы и валятся строчки у Федора Мухортова, который пьет с однополчанином чарку водки за здоровье тещи (№ 17); вот разводы от какой-то «птички», отправленной вместе с письмом своей любезной Алексеем Ильиным (№ 50); вот жуткий скачущий почерк раненого Василия Долгорукова, к тому же в юности учившегося письму тайком в походных условиях (№ 77): та самая жизнь, «теплящаяся в остывших чернилах» из эпиграфа Вяземского.
Баталия – кульминация, требующая эмоционального переживания и интеллектуального осмысления, заставляющая привязать эту повседневность к «большим нарративам». С личным происхождением источника и привязкой к «большим нарративам» связан третий ключевой элемент, вопрос о самосознании авторов писем.
В историографическом смысле исследование вписывается в обширное поле так называемой «новой военной истории»[41]. Ее новизна заключается в применении к реалиям войны культурно-антропологического подхода и проблематики «человека на войне» в противовес «старой» событийной и «идейной» истории войн. Полемическое противопоставление, впрочем, может быть снято: «большие нарративы» вовсе не противоречат включению антропологического фокуса[42]. В европейской историографии ключевое значение для этого направления приобрели публикации в рамках нескольких научных и издательских проектов. «Война в истории» (KRiG, Krieg in der Geschichte) в Германии связана с результатами работы Особой исследовательской группы в Университете Тюбингена «Военный опыт. Война и общество в Новое время»[43]. Два других проекта – английская серия «Война, культура и общество, 1750–1850» (War, Culture and Society)[44], и немецкая «Война и общество раннего Нового времени», которую выпускает одноименный центр (Arbeitskreis Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit) в Потсдаме[45] – особое внимание обращают на войны раннего Нового времени, в том числе, и особенно, на Семилетнюю.
Фундаментальная перемена взгляда на эту войну происходит с изъятием ее из национально-исторического контекста, характерного для континентальной, особенно немецкой, традиции, и перевода фокуса на региональный или глобальный. Семилетняя война оказывается этапом развития «атлантического мира»[46], но одновременно и важным моментом «подъема восточных держав» Европы, начинающегося с Великой Северной войны и заканчивающегося разделами Польши и триумфом над Наполеоном[47].
Для империи Габсбургов Семилетняя война, казалось бы, была не более успешной, чем для России. Тем не менее war effort австрийцев в противостоянии с Пруссией справедливо рассматривается как важная часть в общем удачной модернизации империи, обеспечившей ее существование в последующие полтора столетия. Австрийский материал представляется едва ли не наиболее близким к нам структурно случаем для сравнения с Россией[48].
В британской традиции Семилетняя война всегда рассматривалась как ключевой момент в борьбе за мировую империю. Неудивительно, что именно здесь стали говорить и о глобальном характере «первой мировой войны» с строчной буквы, – как понимал ее уже Уинстон Черчилль[49]. В этом качестве Семилетняя война может оспорить у Первой мировой со прописной и статус «родоначальницы эпохи модерна»[50].
Война как экспонента эмоций и пограничных психологических состояний привлекала и привлекает внимание историков соответствующего профиля[51]. В России «военно-историческая антропология» развивается в основном с акцентом на мировых войнах XX в.[52], но многое в этом отношении сделано и для эпохи Наполеоновских войн. Скромный интерес, который проявлялся к участию России в войне Семилетней, преимущественно связан со «старой» военной[53] и внешнеполитической историей[54].
Особый оттенок публикующемуся материалу придает обстоятельство, что письма писались по свежим следам генеральной баталии. Для раннего Нового времени подобные свидетельства в таком количестве даже в европейском сравнении редки[55]. Схожие по типу «Письма Ватерлоо», к примеру, все же представляют собой воспоминания о баталии, написанные четверть века спустя[56].
Баталия – а тем более баталия генеральная – представляет событие, которого могут, как в кампанию 1758 г., ожидать среди бесконечных маршей и контрмаршей месяцами. В нем сходятся не только страхи, но ожидания и надежды; оно делит жизнь на до и после. Баталия представляет собой кульминацию столкновения человека, уже вовлеченного в войну, с «большой» историей. Она требует осмысления в духовном и рациональном смысле, остается в памяти и автобиографике. Памятные даты баталий встают в новых календарях вровень с религиозными праздниками, обозначая новое линейное время наравне с циклическим церковного года. Даже в примитивных дневниковых погодных записях, которые часто встречаются на таких календарях, наряду с личными событиями – рождениями, смертями, браками – прежде всего фигурируют случившиеся сражения. Наряду с текстами баталия производит целый фонтан артефактов – гравюры, табакерки, платки, лубки, медали. Наш корпус текстов представляет первый этап фиксации переживания баталии, прежде чем этот опыт попадет в мемуары, а далее в трактаты об исторических событиях, написанные их участниками[57].
Феномену баталии посвящена полноценная отдельная отрасль внутри новой военной истории[58]. Культурная история баталии[59] понимает ее как «кульминацию наличных в данную эпоху способностей и энергий»[60], в которой находят выражение скрытые, латентные смыслы. С точки зрения функции баталий в регулировании международной и внутренней политики[61] адепты «баталистики» смело возвращаются на новом этапе к тезису о том, что «поля сражений – это место политического рождения»[62]. Для России «баталистика» такого рода представлена для Полтавы[63], но прежде всего, конечно, Бородино[64]. Цорндорф как отдельный объект исследования также привлекал особый интерес: ему посвящена обстоятельная немецкая диссертация XIX в.[65] И, снова по странности случая, параллельно с настоящей работой и независимо от нее отдельная монография, целиком посвященная Цорндорфу, но в перспективе прусской армии, готовится к публикации в Кембридже[66].
Найденные письма представляют собой массив источников личного происхождения. В случае других воюющих сторон – прежде всего прусской – публикация современных эпохе эго-документов началась еще в XVIII в. и продолжается до сих пор. Причем эти источники включают в себя не только офицерские эго-документы, но и свидетельства нижних чинов[67]. Современные исследования рассматривают их в контексте автобиографических практик раннего Нового времени, влияния на формирование культуры и способов выражения личности крупных войн эпохи – Тридцатилетней и Семилетней, в которых человек учился осознавать себя как исторический субъект[68].
Для России на середину XVIII в. объем известных источников подобного рода невелик в целом, и тем более это касалось истории Семилетней войны. В то же время очевидно, что проблема не только в состоянии архивов, но и в фокусе исследований. Так, в последние десятилетия, наряду с известными с позапрошлого века публикациями[69], в этом ряду появился ряд новых и очень ценных источников[70].
Для социально-культурной истории России XVIII в. документы личного происхождения важны как основной источник, раскрывающий самоидентификацию социальных групп, механизм выработки «идиом самовыражения». Что, в свою очередь, помогает уточнить взгляд на структуру русского общества этого переходного периода[71]. Для эпохи с начала XVIII до первой четверти XIX в., когда империя воевала почти беспрерывно, такая проблематика тесно привязана к автобиографике военного сословия. И если для истории войн источники личного происхождения были и остаются важны скорее как «каменоломня фактов», не отраженных в официальных архивных документах[72], то у «штатских» исследователей внимание переместилось к самосознанию представителей военного сословия как части дворянской культуры.
Наши авторы писем представляют довольно широкую группу генералитета, штаб- и обер-офицерства в диапазоне от генералов до поручиков и подпоручиков, то есть представителей нескольких поколений. Это ставит вопрос о влиянии и проявлениях в рамках военного опыта идентичности офицерства, в большой степени совпадавшего с дворянством. В конце концов, одно из первых «модерных» определений дворянства дано в заметке Петра об офицерах[73]. Вопрос о складывании дворянства в послепетровскую эпоху, его идентичности как маркере нового социального и культурного устройства – один из ключевых для исследовательской литературы последних десятилетий. И если после работ Ю. М. Лотмана и А. Г. Тартаковского фокус был направлен на вторую половину XVIII в., «эпоху 1812 года» и декабризм, то последнее время внимание в значительной степени переместилось как раз к занимающему нас до-екатерининскому периоду[74].
Связь «опыта войны» с «эпохой разума»[75], «человека с ружьем», каким почти исключительно был русский дворянин до Манифеста о вольности дворянства 1762 г., с «философом» второй половины XVIII в. все еще требует уточнения. Что в нем от «просвещенного воина»[76] и что от известного образа И. И. Бецкого, сравнившего доекатерининских дворян с телами, слепленными демиургом (Петром I), но лишенными души? При всем пиетете к екатерининскому веку я подозреваю некоторую искусственность подобных границ. Связанную, не в последнюю очередь, со сложностью услышать голос самих этих «бездушных тел». В чем, надеюсь, настоящая публикация отчасти поможет.
Еще один акцент работы – в сравнении и контексте. С точки зрения войны как феномена культурной истории она не может описываться с одной точки зрения, из одного угла сцены. Если немецкий нарратив оперирует анонимной массой «московитов», то та же односторонность справедлива и для нарратива российского. Пруссак ассоциируется тут с Фридрихом II и «Историей Семилетней войны» Архенгольца (что почти одно и то же). Лишь в последних работах о Семилетней войне стали привлекаться иные источники, в том числе личного происхождения[77]. «Марсов праздник» (№ 69, 70) я буду стараться по возможности представить с привлечением обоих «актерских коллективов».
Это тем более важно, что Российско-императорская армия, с которой мы имеем дело, представляет собой «великий и многонародный город» (А. Т. Болотов). Только в представленном корпусе есть письма на русском, немецком, французском, грузинском, шведском, польском языках. А в составе армии были еще и венгры, сербы, хорваты, молдаване, калмыки, татары, башкиры, мещеряки[78] – вполне «дванадесять языков» для оторопевших пруссаков. Да плюс мулы с колокольчиками, украинские волы обоза, верблюды главнокомандующего… А если прибавить сюда еще и заезжих офицеров с волонтерами, то стоит согласиться с командующим Фермором: «за грехи мои всех наций собрание»[79].
Трактовка офицерских свидетельств, выходящая за рамки истории национальной, помогает настроить правильный фокус для толкования таких текстов. Письма Томаса (Фомы) Григорьевича фон Дица (№ 102, 103), к примеру, не только по языку, но по восприятию и манере описания баталии ближе не к письмам однополчан, а к стилю, скажем, прусского фельдфебеля Либлера или к мемуарам прусского офицера Христиана фон Притвитца[80]. Что неудивительно, если знать, что и остзеец Диц, и оба пруссака воспитаны в традициях немецкого пиетизма.
Наконец, наш источник демонстрирует потенциал, который все еще сохраняют зарубежные архивы для освещения «далеких войн» России, начиная с Ливонской[81]. В ряду других внешних свидетельств, которые нередко сообщают уникальный материал по русской истории, «Россика» такого рода способна до- или восполнить картину, складывающуюся по отечественным источникам.
34
Иоганн Вильгельм Людвиг Глейм, «Восемнадцатому веку» (1797). – Пер. автора.
35
Каменский 2007, 20.
36
Füssel, Sikora 2014, 21.
37
Кошелева 2004, 15–16.
38
Бильбасов 1887, 31.
39
Близко к этому подходят реалии плена, см.: Козлов 2011; Лавров 2010.
40
Между прочим, и буквально: «Пишу сие между убитыми, на обагренном кровью поле баталии», – сообщает своей матери (!) офицер из франко-саксонской армии после битвы при Луттерберге в 1758 г. (Ганс Карл Генрих фон Траутцшен – матери, Луттерберг 11.10.1758 // Trautzschen 1769, 93).
41
Pröve 2010, 105–124.
42
Как показывает, например, исследование Доминика Ливена о войне 1812–1814 гг. (Ливен 2012).
43
http://www.uni-tuebingen.de/SFB437; https://www.schoeningh.de/katalog/reihe/krieg_in_der_geschichte.html, посл. обращение 20.07.2015.
44
http://www.palgrave.com/series/war,-culture-and-society,-1750–1850/WCS, посл. обращение 20.07.2015.
45
http://lit-verlag.de/reihe/huss, посл. обращение 01.09.2017.
46
De Bruyn, Regan, 2014.
47
Scott 2001.
48
См.: Hochedlinger 2003; Duffy 2000 и 2008; Stollberg-Rilinger 2017.
49
Füssel 2010; Danley, Speelman 2012; Externbrink 2011; Baugh 2011; Black 2013, 94–96; Churchill Winston S. A History of the English-Speaking Peoples. Vol. 3. New York – London 1957 (название главы о Семилетней войне).
50
Patrick J. Speelman. Conclusion: Father of the modern age // Danley, Speelman 2012, 519–536.
51
Geyer 1995.
52
Синявская Е. С. (ред.). Военно-историческая антропология. Ежегодник. М. 2002, 2003/2004, 2005/2006; Маленький человек и большая война в истории России. Середина XIX – середина XX вв. СПб. 2014.
53
Масловский 1886–1891; Масловский 1883; Коробков 1940; Keep 1989.
54
Щепкин 1902; Анисимов 1986; Яковлев 1997; Нелипович 2010; Лиштенан 2012; Черкасов 2010; Анисимов 2014. Из немногих исключений – отдельные статьи ежегодника «Война и оружие», издающегося Военно-историческим музеем артиллерии в СПб.
55
Единственный известный мне пример – сборник писем прусских солдат после баталий при Лобозице (1756) и Праге (1757) (Briefe preußischer Soldaten, 1901). Здесь мы, правда, имеем дело с копиями и выписками. Зато в большинстве своем это – пространные! – письма именно солдат и унтер-офицеров, что для России за редкими исключениями (Козлов 2008) в наш период малопредставимо.
56
Siborne H. T. (ed.). Waterloo Letters: a selection from original and hitherto unpublished letters bearing on the operations of the 16th, 17th, and 18 June 1815, by officers who served in the campaign. London 1891.
57
Как Тильке (Tielke 1776) c российской стороны или Архенгольц (Archenholz 1788) с прусской.
58
См. об этом: Martus, Münkle, Röcke 2003; Gumb, Hedinger 2008; Groß; Förster 2008; Weigley 1993.
59
Füssel, Sikora 2014.
60
Siemann W. Das „lange“ 19. Jahrhundert. Alte Fragen und neue Perspektiven // Nils Freytag, Dominik Petzold (Hg.). Das „lange“ 19. Jahrhundert. Alte Fragen und neue Perspektiven. München 2007, 12.
61
Ср. дискуссию о принципиальной способности баталий служить таким регулятором: Russel F. Weigley, The Age of Battles. The Quest for Decisive Warfare from Breitenfeld to Waterloo. L. 1993. Обоснование «права победителей» как элемента рождения модерна: James Whitman. Verdict of Battle: the Law of Victory and the Making of Modern World. Harvard, Mass. 2012.
62
Savoy B. Einleitung // Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Hg.). Napoleon und Europa: Traum und Trauma. München 2010, 16.
63
Энгелунд П. Полтава: Рассказ о гибели одной армии. М. 1995; Кротов П. Полтавская битва. Переломное сражение русской истории. М. 2018.
64
Ивченко Л. Л. Бородинское сражение: История русской версии событий. М. 2015; Земцов В. Н., Попов А. И. Бородино. Северный фланг (М. 2008); Бородино. Южный фланг (М. 2009); Бородино. Центр (М. 2010) и др.
65
Immich 1893.
66
Adam Storring. Zorndorf, 1758 (Birmingham, forthcoming).
67
Начиная с Naumann, 1783, на протяжении XIX–XX вв. появились десятки изданий, в том числе упомянутые работы военно-исторического отделения Большого Генерального штаба Германии (Briefe preußischer Soldaten, 1901). Ср. также Dominicus 1891, Prittwitz 1989, Grotehenn 2012.
68
См., например: Roeck, Bernd. Diskurse über den Dreißigjährigen Krieg. Zum Stand der Forschung und einigen offenen Problemen // Duchhardt, Veit 2000, 184 et passim.
69
Нащокин 1842; Данилов 1842; Лукин 1865; Болотов 1870.
70
Муравьев 1994; Прозоровский 2004; Климов 2011. См. также Яковлев 1998; Мордвинов. Потенциал, несомненно, все еще остается: пока не обнаружены, например, дневники этого периода М. Н. Волконского (Волконский 2004, 10). См. также найденный И. И. Федюкиным (ВШЭ), но на момент выхода этой книги не опубликованный дневник секунд-майора Ширванского полка Алексея Ржевского за 1757–1758 гг.
71
Каменский 2013, 82–83; Schönle, Zorin 2016, 319.
72
Ср.: Keep 1980, 314 («inner life» of the army). Война 1812 г. особенно часто реконструировалась как мозаика личных свидетельств, например: Замойский, Адам. 1812. Фатальный марш на Москву. М. 2013; Рэй, Мари-Пьер. Страшная трагедия. Новый взгляд на 1812. М. 2015.
73
Калашников 1999, 70–71; Петрухинцев, Эррен 2013, 257.
74
Фаизова 1999; Калашников 1999; Каменский 2007 II; Федюкин 2014; Петрухинцев, Эррен 2013; Глаголева, Ширле 2012. Для петровского времени см.: Болтунова 2011; для второй половины XVIII в.: Марасинова 1999 и 2008.
75
Duffy 1987. В этой работе подразумевается, впрочем, только хронологическое, но не смысловое сопоставление Просвещения и войны.
76
Казадаев А. В. Предисловие // Рецов 1818, XIV.
77
Анисимов 2014 привлекает прусские мемуары фон Притвитца (Prittwitz 1989) и мушкетера Доминикуса (Dominicus 1891); Доля V и VI комментирует перевод французских дневников Шарля-Марка де Буффле и Жака де Больё.
78
В числе недавних публикаций – выписки из дневника мишаря 1756 г. с интригующим названием «Язылды бу язу 1756 елда.», изд. Р. Мардановым // Эхо веков. 2002. № 1/2, 16–18 (на татар. яз.). См.: Рахимов Р. Н. Национальная конница в русской армии: опыт Семилетней войны 1756–1763 гг. // Национализм и национально-государственное устройство России: история и современная практика. Уфа 2008, 60.
79
Теге 1864, 1113; В. В. Фермор – М. И. Воронцову, Мариенвердер 18/29.11.1758 // АКВ VI, 349.
80
Briefe preußischer Soldaten 1901, VI, 53–55; Prittwitz 1989.
81
См.: Бессуднова М. Б. Реалии Ливонской войны в показаниях русских военнопленных. Дюнабург, год 1577 // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2016. 1 (19), 38–45, здесь 39.